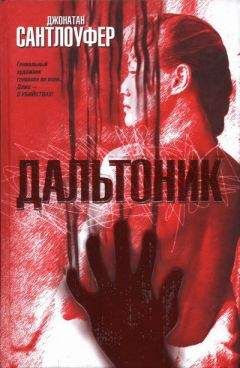Николай Полунин - Орфей
— Может быть, ты хочешь выпить?
— А ты?
— А я хочу.
В квартире она не пила. Я принес ей орехового ликера.
— Эй, — сказала она, — а кто обещал за возвращение?
Рано или поздно это надо было говорить. Я постарался быть кратким.
— Совсем-совсем? — сказала она после некоторого раздумья
— И кофе. И чай крепкий, наверное, тоже.
— И будет…
— Это трудно объяснить словами. Но ты не горюй, — попытался я перевести на шутку, — самое главное-то не попорчено Так сказать, все при мне.
— Что произошло с тобой за эти… эти годы?
— Я тоже тебе говорил. Я жил далеко. Один. Это неинтересно. Если ты помнишь очень мало, то я мою жизнь там вообще бы за пару фраз выразил всю без остатка. Это только на первый взгляд — ах, природа, пастораль! Для тех, кто на дачу приезжает. Или для тех, кто там с рождения прожил, не знает города. Наоборот — хуже.
— Как получилось так, что ты смог попасть за мной, туда?
— Очень долго рассказывать. Я сам больше половины не понимаю. Нам придется принять все как есть. Как нам дали.
— Это… сверхъестественное?
— Ну, в какой-то мере да.
— Ты этим занимался? И занимаешься?
— Ну… нельзя так уж прямо сказать. — Я правда не знал, как тут отвечать ей. — Скорее уж — занимаются мной…
— Парень у подъезда, он вокруг меня в универмаге крутился. Это поэтому? Так всегда теперь будет?
— Не знаю. Не хотелось бы.
— Но может быть?
— Даже скорее всего.
— Тогда… Гарь, когда меня спросят, что я должна отвечать им? Ведь меня спросят? Потому что то, что со мной, — это тоже сверхъестественное?
— Ежа, ты задаешь вопросы… Мне бы очень не хотелось, чтоб было так. Чтобы тебя кто-то о чем-то спрашивал. Ты себе просто не представляешь, сколько их, желающих разузнать. А сколько еще тех, кто желает, чтобы ответы никогда не прозвучали… Вот видишь, я тебе все сказал. Еще сегодня ночью я не знал, как это сделать, а теперь… вот.
Я испытывал почти облегчение. Ежка положила мне пальцы на гипс.
— Там золото-брильянты, — быстро сказал я. — А детям мороженое. О, кстати…
— Ты мне еще много-много не сказал, — задумчиво проговорила Ежик, перебирая мои холодные пальцы, на которых еще оставался несмывшийся белый след. — Но это все равно. Я ведь тебе тоже многого не говорю. Наверное, и должно быть так. Это со временем мы друг другу все расскажем. Ты мне, а я тебе. И нам скучно станет. Нет, погоди. Я о главном сейчас. Сверхъестественное — ну, пусть. Я ведь и до него сказала, что я тебя люблю.
— И я…
— И ты. Погоди, Гарька. Вот. Это самое главное. Это помогло тебе вернуть меня… Вернуть. Неважно, как. Неважно, с помощью кого. Или чего. А сейчас мы с тобой вместе, тут, и нам хорошо. А если спрашивать нас начнут, то мы и ответим. Почему нет? Что нам, жалко? И не мучься ты, забудь о них обо всех. Понимаешь, главное — о плохом забыть, а о хорошем помнить. И больше ничего не надо.
— Конечно.
— Нам ведь обещали, что мы будем жить вечно? Твои слова?
Надо же, подумал, запомнила.
— Меня могли ввести в заблуждение. Самым подлым и бесчестным образом.
— Тогда дуэль?
— Дуэль! — Это уже начинались наши игры. Господи! Ежка, Ежа, Женя, Женечка, Ежичек мой была со мною, о чем постороннем я еще мог думать! Да провалитесь все Миры со всеми Перевозчиками, а также Сергей Иваныч с НИИТоВами и Присматривающие с Решениями!
Ежка пила свой «Амаретто» и гримасничала:
— К старости мужчины становятся слезливыми и сентиментальными. Особенно писатели. — О нет, она мне спуску давать не собиралась.
— Это от ветра и мусора, — пробурчал я, делая вид, что ковыряюсь в глазу. — Засушливое лето. — Я показал на лужи кругом.
— Говорят, для творчества больше всего пригодны тюрьмы и маяки. Ты что-нибудь сотворил там?
Я вздрогнул, и она это почувствовала.
— Да вообще-то есть одна штучка, — сказал я поспешно. И небрежно. — Этот привез. Сергей Иваныч. В смысле, книгу. Новый роман. Уже старый. Так получилось… Который во вторую смену. Он вышел.
— И ты промолчал? Негодяй. Ты будешь лишен счастья лицезреть меня в новых трусиках и даже без них. Между прочим, напоминаю некоторым, что более во грехе жить не собираюсь. Или официальная регистрация, или убирайся вон.
— Предложение, ты хотела сказать? Официальное? Я могу прямо сейчас.
— Фу! — Женя сморщила нос. — Предложение… Из предложений в случае чего алиментов не сошьешь. Мы б тогда все миллионщицами ходили, если б с каждого предложения хоть по копеечке падало. Фигушки! Штамп — лиловая печать, и плевать мне, сколько их там у тебя в паспорте до меня стоит. Мой будет последний, и только один. Там, кстати, так и рассчитано, что места больше нету. Специально для вас, кобелей, умная баба какая-нибудь придумала, помоги ей Господь…
— В том и загвоздка. Ставить некуда. Ни у тебя, ни у меня…
— Сделают. Те, кто вопросы задавать любит. А иначе знаешь им чего? И не вздумай грохнуться на колени в этой тошниловке и картинно признаваться мне в любви. Все равно, кроме вон тех двух алкашей, никто не услышит. А еще знаешь, меня какая форма предложения бесит?
Ежкин нос заострился, глазищи серо засверкали. Это была моя Ежка, Господи. Живая. Невредимая снаружи, а что внутри — излечим. Я этот Мир наизнанку выверну, а с ней ничего не случится. Прав Винни, компонент мой шизоидный, жаль, ты редко появляешься.
— Еще, знаешь, такой вариант: зрелая пара, и уже многолетний круг друзей, и все живут, и она все ждет, а он никак не решится, и все их уговаривают, каждого по одному, и наконец он на каком-нибудь дне рождения — это уже когда за сорок — выносит кольца, про которые все давно знали, и громко объявляет, толстозадая невеста краснеет с большой натугой вроде от смущения, а на самом деле от стыда — сколько ждать-то можно было, — и все умиляются, восхищаются, пьют теплое шампанское…
Ежка поперхнулась, вскочила, махнув рукой: сиди, сиди. Убежала, вернулась с бокалом шампанского. Сделала несколько глотков.
— Никогда не тяни таких длинных фраз, — посоветовал я. — Хоть придаточных, хоть сложносочиненных. Фраза любит точку в середине. Но толстозадая невеста — это ничего себе. Объемный образ. Ай лайк. И почему шампанское теплое? У них нет холодильника?
— Потому что за… — Никак не могла откашляться — За занавеской стояло. На подоконнике.
— Хорошо. — Я протянул руку к ее бокалу, задержал — будь что будет! — чуть пригубил. Совсем чуть-чуть, чтобы только вкус вспомнить. — Сцена есть. Вижу. Верю. Уж молчу, что теперь я еще на три с половиной года тебя старше. На четыре почти. Каково мне? А ты обзываешься.
— О! — Она вновь сморщила нос, зная, как мне это нравится.
— И вот, например, гримаска эта, — продолжал я скрипуче, — тоже из разряда штампов. «Очаровательный носик морща…» Что-то в этом роде. Так я предложения вашего не слышу, девушка.
— Предложение насчет?
— Предложение насчет предлагаемого предложения.
— Ах, насчет… Ладно. — Ежка одним махом допила бокал. — Пойди, Гарька, помаши дяде ручкой, мы закинем эти булки и кое-куда смотаемся. Я у тебя видела много денег. Это хорошо. Отправимся на базар, и я тебе покажу, как по-настоящему надо предложения делать.
— Дяде?
— Ну, машину поймай. А потом на рынок поедем, твой сухой паек, какой привезли, пускай они сами грызут. Если не подавятся. А я тебе такого приготовлю. Я уж там кухню обнюхала — голимая пустынь, но если руки приложить… ты так и будешь сидеть с блаженной улыбкой?
…Город был — мой Мир. Запах бензина в дрянном «Москвиче» — мой. Стеклянная усеченная пирамида рынка с грязными окнами-стенами. Разноцветные ряды, начинающиеся гораздо раньше. Фруктовые горы, зеленные горы, мясные горы, молочно-творожные горы, рыбные горы, медовые пласты и батареи, черные баночные заборы масла… Орехи и курага, ягоды и цветы, колбасы, похожие на чурчхелу, и чурчхела, похожая на колбасы… Фиолетовые и красные лук и чеснок, и зеленые длинные пиявки маринованного перца, и одуряюще пахнущая черемша… Людские лица, приглушенный высотой переплетенный вопросно-ответный торговый гул, и оттуда, из-под решетчатого потолка, — звонкий воробьиный ор и усиленный резонансом голубиный стон… Тоже — мой Мир. Крохотная частица. Какая огромная.
Я вдруг подумал, что я-то не видел его подольше, чем Ежка. Но я сразу отогнал кощунственную мысль.
Женя выбрала белого поросенка, похожего на мертвого младенчика. Когда мне пришлось укладывать его в сумку, я испытал двойственное чувство. Потом мы покупали зелень, чеснок и курагу. Потом масло. Потом еще что-то. Потом Ежка надолго зависла над пряностями, которыми торговал похожий на подсолнечную семечку узбек. Потом тетка, напоминающая сырую квашню, отрезала домашний сыр. Я уже устал от этих сходств. Ежик была неумолима. В конце концов я мстительно затащил ее в ряд солений и тут отвел душу. Пакеты и сумки вываливались у нас из рук. Букет гладиолусов я нес под мышкой.