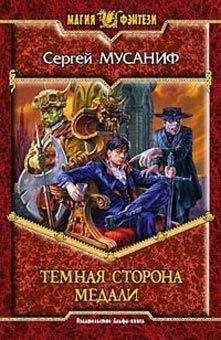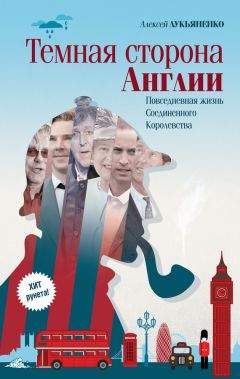Алексей Замковой - Благими намерениями
Только время от времени всхлипывает сидящий неподвижно Казик.
— Значит, так, — я встряхнулся и заставил себя снова встать на ноги, — отойдем подальше и тогда уже будем думать, что делать.
За остаток дня мы отошли от лагеря еще на семь-восемь километров. Стыдно… До боли стыдно, что вместо того, чтобы попытаться отомстить немцам, а может быть, и отбить у них кого-нибудь из наших, если есть выжившие, мы идем в совершенно противоположном направлении. Но с кем мстить? С кем и кого отбивать? Если и есть выжившие, то их уже давно увезли куда-то. А серьезно укусить немцев мы сейчас просто не в состоянии. С кем идти в бой — с пятью вымотанными бойцами и пятнадцатилетним пацаном, боевой дух которых к тому же сейчас гораздо ниже плинтуса? Стыдно от бессилия. А от осознания собственной глупости — вообще хочется разбить себе голову о ближайшее дерево. Или — застрелиться. Пропустить подготовку карательной операции! Не заметить очевидного! Не понять… И ценой тому — жизни более чем сотни человек. Жизни моих боевых товарищей, моих друзей. Всю дорогу мне лезли в голову эти мысли. Но они не были самыми худшими. Оля… Раньше я был уверен, что с ней все хорошо. У нас хорошо — и у отряда Трепанова, с которым она отправилась к Сарнам, не может быть иначе. А теперь, когда наш отряд разбили наголову, я начал беспокоиться и о ее жизни. Что, если их задание тоже провалилось? Что, если задание они выполнили, но отряд потом был уничтожен, как наш?
— Что дальше, командир? — Кто-то трясет меня за плечо, и я понимаю, что уже несколько минут стою столбом, уставившись в никуда, посреди небольшой полянки.
— Привал. — Неимоверным усилием воли я заставил себя вернуться к действительности. Прогнать все лишние мысли. Стать роботом. Автоматом, который думает только о деле. Чтобы не свихнуться. Чтобы выжить. Чтобы отомстить.
Бойцы, облегченно вздыхая, повалились на землю там, где стояли. Только я остался стоять на месте, обводя взглядом свой маленький отряд. Обводя взглядом пять выживших бойцов. Казик — мелкий, шустрый пятнадцатилетний пацан. Я даже не заметил, как он заснул — видимо, вырубился, лишь только опустился на землю и закутался поплотнее в мою трофейную шинель, выданную ему взамен промокшей в болоте одежды. Денис Шпажкин — единственный, кто выжил из подрывников, отправившихся со мной на железнодорожную станцию. Помнится, он был и одним из тех, кто недавно разбирал со мной мины у Коросятина. Сидит, глядя на меня с такой надеждой, словно ждет, что я сейчас взмахну рукой — и война мигом закончится. Якоб Новак — суровый бородатый дядька, пришедший в отряд, кстати, из того же Коросятина, деловито перематывает портянку, не обращая никакого внимания на происходящее вокруг. Августин Крышневский — маленького роста, худой и вообще больше походящий на ребенка, молодой парень, пришедший в отряд с какого-то лесного хутора, сожженного немцами, привалился спиной к дереву и, прикрыв глаза так, что остались лишь узкие щелочки, наблюдает за мной. Арсений Дронов и Василий Гац — окруженцы, не так давно прибившиеся к нашему отряду. Оба молодые, но успевшие повидать уже столько, что иному хватит на всю жизнь и еще останется. Оба хлебнули войны и в окопах, и в лесу, скрываясь от внезапно оказавшихся повсюду немцев, и в нашем отряде. Арсений, несмотря на то что зевает во весь рот, что-то оттирает с открытого затвора трофейного карабина. Василий, последовав примеру Казика, положил голову на мешок и тихо похрапывает.
Я несколько мгновений колебался — дать бойцам отдохнуть после всего случившегося или немедленно приступить к действиям, жажда которых накрыла меня, словно волна цунами. Несмотря на усталость, до боли хочется куда-то бежать, что-то делать. Хрен тебе! Наделали уже, не включая голову, столько, что получились полные штаны. Сначала надо все хорошо обдумать. А это лучше делать на свежую голову.
— Сейчас отдыхать, — холодно приказал я. — Дронов, разбудишь меня на рассвете.
Дождавшись кивка Арсения, я сгреб палую листву, усеивающую все вокруг, в некое подобие матраца и вырубился, едва улегшись. Вырубился начисто — без снов. Так что, когда меня начали трясти за плечо, показалось, что я только моргнул и за ту долю секунды, пока мои веки оставались сомкнутыми, только недавно спрятавшееся за горизонтом солнце непостижимым образом успело пройти свой путь и снова выглянуть на востоке.
Едва я открыл глаза, мой мозг сразу же включился в работу. Ни следа усталости, ни следа сна. Словно компьютер включили, а не проснулся живой человек. За что браться в первую очередь? Я посмотрел на своих людей. Практически у всех лица настолько кислые, что никаких сомнений в том, что боевой дух моего маленького отряда сильно подорван, не возникает. Значит, сначала надо разобраться с этим вопросом.
— Кто остается? — спросил я и, видя непонимающие взгляды, которыми меня одарили все шестеро, пояснил: — После всего произошедшего я не стану винить того, кто захочет покинуть отряд. Если кто-то хочет уйти — говорите сейчас.
Непонимание во взглядах сменилось… возмущением! Всего шесть человек, один из которых — мелкий пацан, но я чувствую себя так, словно меня освистала целая толпа. При этом ни одного звука никто не произнес. Тот, кем я был в своем времени — в прошлой жизни, не понял бы такой реакции. Наша группа не далее как четыре дня назад была разгромлена во время выполнения задания. Наголову разгромлена — даже не хочу подсчитывать, какой процент выжил! После этого мы узнали о гибели всего остального отряда. Конечно, некоторые группы, отсутствующие в лагере, как наша, могли выжить, но в целом — отряда больше нет. Точнее, есть — мы. Но этот отряд состоит всего лишь из семерых истощенных людей, а из снаряжения у нас только то, что смогли сохранить в бою. А ведь против нас — вся мощь немецкой армии, первоклассно снабженной и обученной. Что могут сделать семеро против такой армады? Самоубийство! Однако гляди ж — праведное возмущение моим предположением, что кто-то хочет поступить разумно (с точки зрения моих современников) и не ввязываться в практически безнадежное дело, аж кипит в их глазах. В XXI веке я бы такой реакции не понял. Даже, возможно, сам был бы первым, кто махнул бы на все рукой и решил бы, что раз дело безнадежно, то не стоит и связываться с ним. А теперь, в середине XX века, после нескольких месяцев войны, после того, как я потерял тех, кто стал мне другом, после того, как я влюбился и был разлучен со своей любимой водоворотом войны, надеясь только на то, что она еще жива, после всего этого я не отступлю.
— Что будем делать, командир? — спросил Шпажкин, и этот вопрос, даже не столько он, сколько то, что бойцы мой вопрос не сочли достойным ответа, вселил в меня уверенность в том, что наше дело не так уж безнадежно.