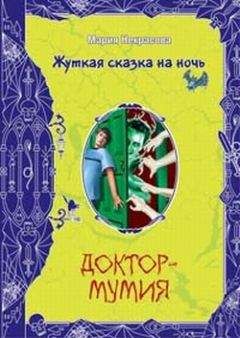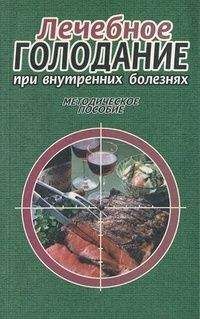Борис Толчинский - Боги выбирают сильных
К грядущему несчастью, труп не оказался трупом; явившего проблески сознания делегата срочно доставили в Авентинский госпиталь. Врачи, осмотрев больного, поставили диагноз: «Поверхностное ножевое ранение в грудь, вызвавшее значительную потерю крови».
За жизнь слуги народа можно было не опасаться. Вскоре к нему явились милисы, но не в белых ризах, а обыкновенные, в коричневых мундирах, и задали уместные вопросы по поводу происшествия. Сперва стражам порядка пришлось довольствоваться невразумительным бормотанием, но затем показания делегата обрели минимальную ясность, и милисы добросовестно зафиксировали в своих протоколах:
«Со слов пострадавшего, ночью на него напали трое, один из которых нанес ему ножевое ранение. Дальнейшее помнит смутно. Каких-либо примет нападавших не помнит совсем. Версия: ограбление».
Впрочем, несколько часов спустя следствие скорректировало свою позицию и, не без настойчивой подсказки свыше, стало полагать нападение на известного вожака толпы политическим покушением. Это бросало тень на сторонников Софии Юстины, но, конечно же, не на нее саму.
Таким образом, сыну Кимона Интелика не удалось принять участие в решающем заседании Плебсии. Трибун Кимон, конечно же, не мог ждать сына; о том, какая неприятность приключилась с Андреем, Кимон узнает после заседания. С Корнелием ему связаться также не удалось, и Кимон сделал то, что вынужден был сделать. 13 января Сто сорок восьмого Года Симплициссимуса народные избранники, по предложению своего трибуна, успешно провалили кандидатуру князя, сенатора и консула Корнелия Марцеллина на пост первого министра Аморийской империи.
***
Злосчастный делегат лежал один в своей палате и предавался горестным раздумьям. Несмотря на потрясение, а может, именно благодаря ему, Андрей запомнил свое «добровольное признание» слово в слово. Он понимал, это не сон, это кошмар реальный, и это означает, что князь Корнелий, бывший благодетель, а нынче властелин, действительно в любой момент способен затянуть петлю на его, Андрея, шее, — и легче, чем торквес на шее жалкого раба.
Корнелий оказался прозорлив в одном: ему удалось покарать обидчика Софии карой худшей, нежели смерть, — он подселил в душу Андрея неизбывный, липкий, леденящий страх; волею Корнелия Андрею придется жить с этим страхом, и жизнь перестанет быть жизнью, превратится в пытку.
Но в остальном Корнелий Марцеллин ошибся — то была традиционная и роковая ошибка большинства талантливых людей, мнящих себя великомощными богами.
Ошибка заключалась в том, что, превратив Андрея Интелика в своего покорного раба, князь Корнелий и относиться стал к Андрею, как к рабу, то есть перестал принимать его всерьез.
Между тем Андрей Интелик сделался рабом не одного, а двух господ, и второй хозяин, извечный повелитель потаенных пороков, издревле был сильнее, коварнее и изощреннее своих земных подражателей.
Всей предыдущей жизнью подготовленный к рабской доле, подсознательно Андрей Интелик был рад сделать роковой выбор. Все унижения, обиды, злоключения минувшего в тот день всплыли в его памяти, сложились меж собой, смешались в гремучую взвесь, — и, подожженный случайной искрой князя Корнелия, в душе Андрея воспылал костер неистребимой ненависти.
Андрей знал нынче, кто его смертельные враги. Образы Софии, Корнелия, других князей, других патрисов, всех, кто так или иначе наносил ему обиды, вольно, невольно, лично ему либо той общности, к которой он себя причислял, каким-то действием либо одним лишь фактом своего существования, слились в сознании Андрея и образовали фантом некоей невиданной рептилии, ужасающей, как загадочный карлик Улуру, но имя ей было — Аристократия.
Прежде Андрей-политик различал аристократов меж собой. Например, Юстины были врагами, Милиссины — союзниками Юстинов, и значит, тоже врагами, Петрины держали нейтралитет, следовательно, могли стать как врагами, так и союзниками; Марцеллины были друзьями и благодетелями. Нынче Андрей постиг, что деление аристократов на «своих» и «чужих» обманчиво, наивно, примитивно, опасно — они враги все, от первого до последнего: в конечном счете князь Корнелий ничем не отличается от княгини Софии, он такой же, как она, а она такая же, как все.
И Андрей Интелик возненавидел их всех, самой лютой ненавистью, на которую была способна его смертельно раненая душа. Ничего не зная о любви Корнелия к Софии, даже не догадываясь об этой истинной причине своего несчастья, Андрей думал: «Злодей, потомок Фортуната, обошелся со мной, как с варваром, язычником, рабом, хотя я преданно служил ему, а насчет Юстины предложил единственно разумный выход. Чего уж проще: убить Юстину, и мы в триумфе — он первый министр, а я… Ему это даже выгоднее, чем мне! Но он, видать, обиделся, как это я, низкорожденный, предлагаю ему, князю, убить княгиню! Они, князья, патрисы, пришельцы, нас, коренных, не ставят ни во что. Мы для них вообще не люди. Мы, плебеи, для них ублюдки, такие же, как проклятые язычники…».
Еще рассудил он такое, что накануне не привиделось бы в самом кошмарном сне: «Не были б Ульпины еретиками, много правильного можно было бы найти в их учении».
Но не подумайте, читатель, что наш Андрей готовился стать еретиком, хотя бы и в душе. Не таков наш Андрей, чтобы идти против сияющего солнца (вернее, эфира) аватарианской веры, нет, сила его в другом.
Сила нашего Андрея, которую он сам пока еще не очень сознавал, заключалась в умении обращать свет сияющего солнца в лучи смерти.
Корнелий Марцеллин обрек Интелика на пытку страхом — и не догадывался он, этот могучий Марцеллин, что бывший протеже его возжаждет разделить свой страх на всех.
Он многого не понимал еще, Андрей Интелик, не видел он пока различия причин и следствий, и это тоже справедливо и разумно, ведь теоретиком не был он… и это тоже ничего: творители идей всегда найдутся, были бы практики умелые.
Отныне он знал в лицо врагов своих, патрисов. Еще он знал в лицо друзей, тех, кто поможет ему отомстить патрисам. За него и за себя, за всех и за все. Последних было на тридцать пять миллионов больше, чем первых. Но, именно, они были последними, в сравнении с его врагами, и они еще не сознавали, зачем они нужны ему, Андрею.
Он поклялся, что объяснит им, и они отомстят.
Он не знал еще, когда и как случится эта месть, и какую цену, и кому, придется за месть заплатить — одно он твердо знал днем тринадцатого января: он отомстит за все.
Корнелию. Софии. Князьям. Патрисам. Всем врагам народа, то есть его врагам.
Таким мечтаниям он предавался, народный делегат Андрей Интелик, и как-то упускал из виду, что не под силу одному возжечь костер всеобщей мести. Он упускал из виду армию, фанатично преданную Божественной власти; чиновничество, в наиболее профессиональных слоях своих состоящее из потомственных патрисов; магнатов, воспитанных системой и вросших в нее; иереев, освящающих систему, — и тем более упускал из виду общество, повязанное невидимыми сетями Истинной Веры… Наконец, он упускал из виду тайную сверхсилу, истинная природа которой тщательно скрывалась от смертных, — единственной самодовлеющей целью этой сверхсилы было сохранение Божественного мира.
Однако ненависть, вместе со страхом воспылавшая в его душе, была неотъемлемой крупицей Мирового Зла, и в этом качестве тоже была сверхсилой.
Он стал еретиком, Андрей Интелик, не потому, что он сознался в ереси Ульпинов, а потому, что нынче Сатана подселился в его душу.
Вечером того же дня трибун Кимон Интелик навестил сына в больнице, и Андрей поведал отцу, мол, князя Корнелия так и не дождался, был внезапно атакован тремя неизвестными в масках… и дальше ничего не помнит.
И Кимон укрепился в мысли, что покушение совершено людьми Софии Юстины, как бы в отместку за давешний конфликт на Форуме, — и тоже зарекся отплатить за все.
За сына. За собственные унижения. И за народ, конечно.
Они всегда если что и делают, то исключительно ради страдающего народа, эти люди толпы.
После Кимона Андрея навестил Роман Битма. Великозвучный публицист нынче показался Андрею особенно подозрительным, так как стрелял глазами по сторонам пуще обычного и, притом, пугался каждого шороха.
Мысль шевельнулась у Андрея, не служит ли соумышленник агентом у Юстины, не он ли, Битма, выдал ей его, Интелика. Ведь кроме этого коротышки, в ту ночь на Форуме были только варвары, да сами ересиархи!
Немного поразмыслив, Андрей отринул эту мысль. Во-первых, рассудил он, Ромаша трусостью силен настолько, что не решится даже постучать в ворота злой врагини, ни днем, ни ночью (днем — потому что могут увидеть, а ночью — потому что темно), не то что выполнять шпионскую работу для нее. Второе, логично вытекавшее из первого, заключалось в том, что Ромаша побоится доносить о преступлении, которое свершилось на его глазах и которому он не помешал, хотя, как честный аколит, помешать был обязан. В-третьих, Ромаша бы не стал так злобно поливать Юстину в своих публицистических трудах, если б предался ей однажды. И в четвертых, если б Ромаша на него донес, он бы, Андрей, как проницательный политик, Ромашу раскусил, а раз не раскусил, то значит, не донес Ромаша.