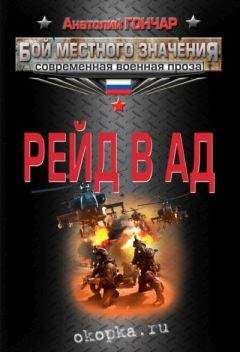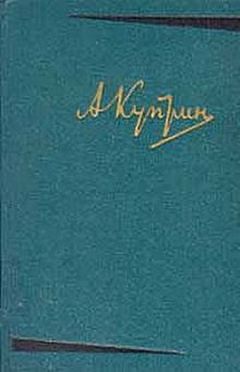Валерий Большаков - Преторианец
Вся троица спустилась галереей ниже, прошла чередой капелл и крипт, пока не забрела в тихий закуток, где у стен с пустыми локулами стояли лежаки, застеленные овчинами.
– Ты, наверное, устал, – предположила Авидия.
– Есть немного…
Лобанов тяжело опустился на лежак.
Авидия Нигрина присела рядом, и мысли Сергея мигом поменяли течение. Посмотрев на парочку, Киклоп потоптался и забурчал:
– Схожу до дому, пожалуй… Гляну, что там и как…
– Ой, Киклопик! – оживилась Авидия. – А ты еще придешь?
– Так мне возвращаться? – взбодрился великан.
– Конечно! – расширила глаза девушка.
Киклоп, счастливо улыбаясь, ушел, утягивая за собой тени. Стало темнее – одна полуоплывшая свеча не разгоняла мрак. Авидия томно вздохнула.
Лобанов протянул руку и погладил девушку по волосам, коснулся плеча, провел пальцами по стройной шее, ущипнул за нежную мочку ушка.
– Сергий… – прошептала Авидия.
В потемках зашелестела туника, и Сергей почувствовал вдруг теплое дыхание девушки на своей щеке.
– Авидия…
Он повел рукой, прикасаясь к плоскому девичьему животику, всею ладонью приподнял круглую, упругую грудь, вмял пальцы, нащупывая отвердевший сосок. Руки Авидии слепо шарили по его телу, потом отстранились. Зашуршала туника. Лобанов поспешно содрал с себя свою и осторожно подал руки, натыкаясь на гладкое, горячее, шелковистое.
И именно в момент близости с Авидией Нигриной, патрицианкой, дочерью сенатора и консуляра, Лобанов сложился, сочетался с миром этого времени, миром диким и необузданным, надменным и покорным, мудрым и наивным. Сергей перестал прибавлять почти двадцать веков разницы, он вычел их и вывел за скобки.
– Тебе не больно, ocelle mi?[112]– прошептал Лобанов.
– Мне хорошо… – выдохнула Авидия.
Они лежали рядом, голые и довольные. Девушка, положив Сергею голову на плечо, обнимала его. Завозившись, она погладила Сергеевы неровные ноги своею ножкой и закинула бедро ему на живот. Лобанов тут же положил ладонь сверху, с наслаждением ощущая молодое, тугое, налитое…
– Наверное, я согрешила… – пробормотала Авидия.
– Самый тяжкий грех, – глубокомысленно изрек Сергей, – это не грешить вовсе…
– Ага…
Девушка потянулась, дотягиваясь до Сергеевых губ чмокнула и прижалась теснее.
В галерее замелькал свет факела, но шагов слышно не было.
– Это Киклопик, – сказала Авидия, – он один так ходит, бесшумно, как привидение…
Сергей осторожно освободился от гладких рук и ног возлюбленной и сел. Натянул свои галльские штаны, Авидия лениво прикрылась туникой. В проеме появился Киклоп, волоча два пухлых тюка. Заметив голые ноги Авидии, германец довольно оскалился.
– Я тут прихватил кой-чего… – проворчал он, опуская ручную кладь, и поманил Сергея пальцем: выйдем, мол.
Сергей, быстро затянув ремешки мягких полусапожек, встал и вышел. В галерее сохранялась тишина, только издалека, откуда-то из глубин гипогея, долетало эхо молитвы.
– Что еще не слава богу? – спросил Лобанов.
– Да вот… – буркнул Киклоп и шумно вздохнул. – Я там прошелся туда-сюда, покормил Зару и Бару, лошадям корма задал, короче, помелькал. А все там – и черный этот, и Пальма, и хозяин… Народу… Стража повсюду, злые все, орут… Еле отбрехался! Показал им череп вора позавчерашнего, поверили вроде, что твой… Во-от… И тут – гонец! Откуда-то из Аквитании, от Попликоллы, старого знакомца всей братии. Попликолла одно только слово и прислал – «Согласен!» Ну, все зашумели, хозяин сел ответ писать, а Квиет кликнул Радамиста. Короче, послали они этого иберийца с письмом, чтобы Попликолла знал, когда и куда двигать свои когорты…
– Та-ак… – тяжело сказал Лобанов. Подумав, он добавил: – Гонца надо обязательно перехватить! Ч-черт… Я-то думал сегодня обо всем доложить Аттиану, и пусть у него голова болит, но… Сколько времени хоть?
– Рано еще. Часа три до рассвета…
– Сделаем так, – решил Лобанов. – Я к своим, и мы догоняем гонца. А ты… Слушай, Киклоп, будь другом, сходи с утра в Кастра Преториа, разыщи там префекта и доложи ему обо всем! Сможешь?
– А чего ж… – проворчал великан. – Доложим… Может, и мне с вами махнуть? Места те мне знакомые…
– А с кем я Авидию оставлю? Нет, Киклоп, ты здесь нужен.
– Ладно… Пойдем, у меня там кони привязаны…
– Ну, вообще хорошо! Секундочку…
Сергей вернулся в крипту. Авидия спала, тихонько посапывая и улыбаясь во сне. Лобанов наклонился и поцеловал ее. Девушка вздохнула, пробормотала что-то невнятное. На цыпочках покинув крипту, Сергей вышел в галерею.
Вдвоем они пробрались по галерее, спустились ярусом ниже, покружили, поднялись и вышли в широкий коридор. Потянуло свежим воздухом. Киклоп вывел Сергея в вестибул и на улочку. Отсюда вход в гипогей казался чем-то средним между спуском в подвал и парадным подъездом – низкая дверь вела под холмик, но была обрамлена парой колонн и маленьким фронтоном.
– Сюда! – глухо сказал Киклоп, сворачивая к маленькой рощице. За деревьями тихо заржала лошадь. – Соскучились!
К деревьям были привязаны две лошади, Киклоп отвязал чалого и подвел:
– Залезай!
Сергей вскочил в седло и поднял руку, прощаясь с Киклопом. Он терпеть не мог спешки, когда все на бегу, все второпях, а что делать? Жизнь такая!
– Ну, пока, Киклоп! Береги Авидию!
– Vale!
Глухая ночь окутала Рим, но город спал плохо – ворочался, возжигал огни на холмах своих, посматривал на всадников черными провалами незастекленных окон.
С трудом размотав клубок перепутанных улочек, Лобанов выехал на Альта Семита, к своей инсуле.
Привязав лошадь к решетке ворот, он поднялся на тер. расу второго этажа и постучал в дверь. Открыли чуть ли не сразу. В щель просунулась голова Эдика, взлохмаченная, с перьями в волосах.
– Привет! – сонно сказала голова.
– Почему не интересуешься, кто пришел? – строго сказал Лобанов.
– Ха! Будто я твой стук не отличу! Чего стоишь? Проходи, шлюндра!
Красться Сергей не стал, заглянул в кубикулу с Гефестаем и Искандером и громко сказал:
– Подъем!
Гефестай поднялся медведем, потянулся, сипя от натуги, и выдохнул.
– Чего так рано? – спросил сердито Искандер.
Сжато изложив события последнего дня, Лобанов скомандовал:
– По коням!
Одолжив у Прима на конюшне трех свежих лошадей, двух гнедых и одну чалую, Эдик, Искандер и Гефестай присоединились к Сергею.
…Был тот час, когда колеса телег, ошиненные бронзовыми накладками, уже отгремели свое, унялись выпивохи, и весь остаток ночи город спал крепким, похожим на обморок, сном. Подковы звонко грюкали по каменным плитам мостовой, множественное эхо гуляло дробным стаккато. Свежий ветерок поддувал с моря, сгоняя с улиц миазмы от миллионов выдохов, испарений Большой клоаки,[113] запаха перегара, горелого масла, пропотевших тог.
Небо на востоке серело помаленьку, смутно очерчивая гребень Альбанской горы. Звезды меркли, уступая место желтому карлику по имени Солнце.
2
Половину ночи Сикст сын Пастора, епископ епископов, провел в молитвах. Он был очень зол и растерян и не знал, как ему быть. Этот святой… Братья должны не понять, не доказать себе истинность или ложность жития Спасителя, а вплавить в сердце, в печень, в кровь веру в него! Иисус – это божественный символ, и паства должна веровать, веровать слепо и нерассуждающе, и так, как указывает он, Сикст! Ибо он прав, и его символ веры единственно правильный и праведный! Да и разве он для себя старается? Ему надо так мало от жизни! Все его умения, все силы отдаются на устроение Святой Церкви, на преумножение славы ея, на возвышение ея и распространение по Ойкумене! Ибо множество душ заблудших не восприяли Благую Весть и не ведают, как им спастись, как выйти из тьмы на свет!
И этот варвар в штанах, что клеймил его… Его! Сикст замычал от сдерживаемых чувств. Убить! Убить лжепророка! Но как? Чьими руками очистить Церковь от разрушительных бед, кои предвещаются сомнениями?
Сикст огладил белую тунику. Нечистая кровь убиенного «святого» не должна запятнать эти покровы…
Тихий стук прервал размышления. Сикст проворно засеменил к двери и отпер ее.
– Можно, рабби?[114] – робко спросил гигант Киклоп.
– Входи, сын мой! – ласково сказал Сикст. – Что привело тебя ко мне в такой час?
– Хочу исповедаться, – пробубнил Киклоп.
– Садись, садись! – засуетился Сикст.
Киклоп неловко присел на лежак. Лежак жалобно заскрипел.
– А все, что скажу, останется тайной? – робко осведомился великан.
– А как же! – мягко проворковал Сикст. – Тайна исповеди неразглашаема! Все, что будет сказано тобой, навеки канет в сердце мое!
Успокоенный Киклоп кивнул и заговорил:
– Я много лет служу у Гая Авидия Нигрина и был верен ему. Я обязан жизнью ему и отдаю долг… Долг мне не в тягость, я живу в достатке и покое. Но… – германец замялся. – Хозяин затеял недоброе дело… В общем… Эх, не о том я! Просто… хм… хозяин послал гонца в Аквитанию, по тому самому делу нехорошему… А я рассказал об этом Сергию! И вот святой погнался за гонцом… А я, выходит, предал Авидия? Вот, что мучит меня и не дает покоя!