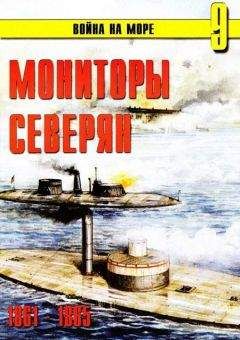Татьяна Вяземская - Зовите меня Роксолана. Пленница Великолепного века
Она покачала головой.
– Мне даже думать не хочется о том, что может произойти тогда.
В апреле она поняла, что снова беременна. Что же, если будет мальчик, его назовут Мехмедом; в этот раз она не станет противиться.
Подготовка к знаменательному событию не помешала ей отслеживать происходящие в бракоразводном процессе короля Генриха изменения. Впрочем, судя по тем сведениям, которые ручейком стекались к ней, существенного ничего не происходило: своим, полным намеков, разговором с неаполитанским посланником, она не толкнула никого из заинтересованных сторон на более решительные действия.
Тем временем ее ушей достигали и слухи о том, что европейские монархи удивлены и восхищены странной женщиной, которая правит страной вместе со своим мужем, великим султаном Сулейманом Кануни.
Послы при личных встречах восторгались ее осведомленностью; она, следуя давней привычке, посмеивалась. Да, многое она помнила, еще помнила из курса истории – все-таки ее мама подошла к вопросу обучения дочери достаточно серьезно. Что-то – но далеко не все; к тому же мир вокруг нее менялся. Что не могло, с одной стороны, не радовать, ведь именно это и являлось ее целью: внести в историю определенные изменения. С другой стороны, это и тревожило, поскольку неизвестные ей события, вызванные этими изменениями, она не могла «предсказать». Но зато она научилась выуживать крупинки информации из слов, произнесенных теми, с кем ей доводилось пообщаться: посланниками, торговцами. Она научилась настолько умело задавать вопросы, что люди зачастую, сами только что выложившие определенные сведения, вскоре удивлялись тому, что они известны хасеки Хюррем.
Этим своим новым умением она гордилась, и вместе с тем оно словно прибавило ей лет. Внешне она оставалась все той же беззаботной хохотушкой, но подчас, радуясь или смесь над чем-то по-настоящему смешным, она слово бы вслушивалась сама в себя: а не проскальзывает ли в ее смехе фальшивая нотка?
Пышно и торжественно прошли свадьбы двух остававшихся незамужними сестер Сулеймана: Фатьмы-султан и Шах-султан. «Лишних» денег в казне не было, но Хюррем настояла: у младших сестер не могут быть свадьбы менее пышные, чем у Хатидже. Разве это справедливо? Гадюка Хатидже, которая только и ожидала момента, чтобы ужалить, – и спокойная, рассудительная и умненькая Фатьма, которая вызывала ее уважение, и веселая, беззаботная и милая Шах, которой тоже уже пора было обзаводиться собственной семьей; их даже сравнивать нельзя! И, уж конечно, две последние заслужили свадьбы не хуже, чем у старшей сестры!
– Нет денег?! Так сделай обе свадьбы одновременно! Но позорить девушек я тебе не позволю!
Как будто она вообще что-то могла позволить или не позволить могущественному султану; но Сулейман к жене прислушался, и на протяжении двух недель игрались две свадьбы. Хатидже кусала губы от злости, потому что ее свадьба все-таки меркла по сравнению с этой, двойной свадьбой. Но, по крайней мере, хоть не пыталась сестрам настроение испортить; вообще после замужества она заметно успокоилась, зато сам Ибрагим стал несколько дерганым. Н-да, нелегкая ноша – быть мужем султанской сестры, да еще и такой капризной.
Мужем вдовы Фатьмы-султан стал Кара Ахмед-паша, бейлербей Румелии. Хюррем он был симпатичен. Неглупый и спокойный, под стать самой Фатьме. Мужа сестре подобрал Сулейман, но это и вправду был удачный выбор.
Шах-султан вышла замуж за Лютфи-пашу, санджакбея Кастамону. Младшая султанская сестра, веселая резвушка, выбрала мужа сама. По мнению Хюррем, он ей не очень-то подходил: такой слегка занудный, слишком спокойный, да и вообще – он ей напоминал Кролика из мультика про Винни-Пуха. Но раз Шах-султан выбрала, стало быть, пускай так и будет. К тому же Сулейман о нем отзывался весьма лестно; да и сама Хюррем была в восторге от принадлежащего его перу политического и экономического трактата «Асаф-намэ».
Радовался маленький Ильяс, который уже понимал, что происходит; радовалась Михримах, которую тоже взяли с собой; правда, она больше радовалась за компанию с братом.
Искренне радовался и Сулейман. И только хасеки Хюррем, искренне уважавшая Фатьму и любившая Шах-султан, улыбалась натужно, прислушиваясь к тому, что происходит в недрах ее естества. После рождения Сулеймана она почему-то стала бояться: ей казалось, что любые ее действия – даже вот то, что она сейчас сидит под балдахином на украшенном троне, – могут принести вред ее малышу. Хоть бы это была снова девочка! Говорят, девочки более живучие, а с ее способностью наносить вред собственному нерожденному младенцу…
В своих страхах она призналась Сулейману, но, как и следовало ожидать, муж ее не понял:
– Ты – мать троих прекрасных, здоровых детей. Тебе ли бояться родов?
Да не родов она боялась! А того, что может своими действиями каким-то образом причинить вред малышу! Но ведь Сулейман не знал, почему маленький Сулейманчик родился недоношенным. Он не видел его махонького, красного личика, вернулся в Стамбул уже тогда, когда ребенок «вылюднел».
– Чем больше ты будешь думать об этом, тем хуже будешь себя чувствовать, – спокойно заметил муж.
Правда. И тем хуже себя будет чувствовать ребенок. Ну уж нет! С ней и с малышом все будет хорошо. Она спокойна. Что бы ни случилось, она будет сохранять спокойствие, и все будет хорошо.
В положенное время, и даже без особой боли, она родила близнецов, двоих чудесных горластых мальчишек, которых, согласно желанию отца, нарекли Мехмедом и Селимом.
Это были красивые, сильные, здоровые дети, но, глядя на них, Хюррем ощущала, что сильнее всего любит маленького Сулеймана. Это пугало ее: у нормальной матери не должно быть любимчиков! Но – ничего не могла с собой поделать. То ли оттого, что сама была виновата в его преждевременном рождении, в его слабости. То ли оттого, что ей импонировала его жажда жизни, жажда деятельности. Ему было всего полтора годика, но он уже пытался – правда, безуспешно – повторить некоторые вещи, которые делала его старшая сестра Михримах, тоже, надо признать, весьма шустрая особа.
Хюррем сама удивлялась тому, как все успевает: и читать, и писать стихи. В последнее время очень полюбила делать это, и результат, как ни странно, нравился даже ей самой. Успевала и играть с детьми в разные развивающие игры (рисовала детям зайчиков, медведей, один раз даже нарисовала нечто, похожее на Чебурашку, и рассказала придуманную ею самой сказку, ведь те сказки, которые рассказывали ей, для малышей, родившихся в шестнадцатом веке, просто не годились) и не запускать при этом свои «политические шалости», как она это называла. С другой стороны, как в свое время успевала ее мама? Политики, правда, в ее жизни не имелось, зато имелась работа, стирка, уборка, приготовление еды. Сама-то она от хозяйственных хлопот была избавлена.
И – честно признаться – порой жалела об этом. Нет, мыть посуду или выглаживать постельное белье – тут уж увольте. А вот приготовить что-нибудь вкусненькое…
Однажды она заявила мужу:
– Сегодня буду готовить тебе борщ.
– Что готовить? – не понял Сулейман; сам он изучал отчет санджакбея Амасьи. Она этот отчет уже просмотрела, ничего, заслуживающего внимания, не нашла и теперь не понимала, почему муж читает этот документ так долго.
– Борщ. Это такая чорбасы. Обещаю, тебе понравится!
Сулейман оторвался от отчета. Лицо у него было недовольное.
– Негоже хасеки марать свои руки на кухне.
Хюррем ласково заглянула мужу в лицо.
– Разве может работа быть зазорной? Ну что плохого, что ты попробуешь еду, какой кормила меня моя мама?
– Можно повелеть служанкам, и они сготовят любую еду, – сухо отвечал султан, снова беря отчет. Почему-то кверху ногами.
– Что может быть для женщины большей радостью, чем приготовить еду для своего любимого мужчины?
– Почему-то раньше ты об этом не вспоминала, – буркнул он, снова кладя бумаги на стол. – Не хватало еще, чтобы даже служанки стали обсуждать своего султана и говорить, что его сумасбродная жена вьет из него веревки.
Она потерлась носом о его макушку. Сулейман, как и полагалось правоверному мусульманину, голову брил, и макушка была жесткой, как наждачная бумага.
– А давай сделаем вид, что ты меня наказал? За какую-то провинность отправил на один день на кухню. Давай?
Она знала его уже более шести лет. Она видела его разным: грозным и растроганным, грустным и веселым, гневающимся и любящим. Но вот чтобы он так смеялся – такого она не помнила. К тому же она вроде ничего смешного и не сказала…
– Ты чего?!
Он ухватил ее руку, поцеловал ладонь, щекоча усами.
– Мне кажется, кухарки скорее поверят, если на кухню сошлешь меня ты, моя милая хасеки.
– И ты… тебя это не смущает?
Он покачал головой.
– Мне совершенно все равно, кто и что может подумать. Ничье мнение меня не интересует. Кроме твоего.