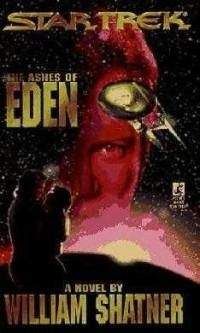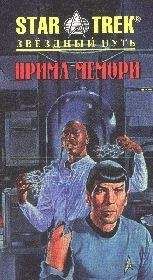Константин Шильдкрет - Розмысл царя Иоанна Грозного
— Коли б опамятовался!
И упавшим голосом:
— Худородным те льготы, а не боярам.
В тот же день князь поскакал к воеводе.
— Не дам! Ни зёрнышка не пожалую! — зло бросил он в лицо приказным. — Коли льгота, всем она вместна, а не единым страдникам да псарям!
Вернувшись в усадьбу, он за бесценок продал хлеб и ночью, когда уснули людишки, зарыл все свои деньги и драгоценности в землю.
* * *
Новые помещики не долго засиживались в своих поместьях. Их то и дело снаряжали на брань или призывали на Москву. Перемены эти тяжело отражались на кабальных людишках. Приходилось непрестанно приспособляться к нравам и привычкам господарей и всегда быть готовыми ко всякой напасти. Среди летней страды спекулатари перебрасывали вдруг, без предупреждения, целые деревни на новые места и вконец разоряли убогое крестьянское хозяйство.
Дети боярские не внимали никаким челобитным. Не имея за душой ни денги и чувствуя непрочность свою на земле, они, чтобы как-нибудь поправить дела, не задумываясь, продавали богатым соседям людишек целыми пачками.
Раньше, при князьях-боярах, были у холопей и избы, и крохотные наделы, которые кормили их хоть в осенние месяцы, строго заведённым порядком шла подневольная жизнь, и у каждого в груди таилась надежда попасть когда-нибудь в милость к господарю. А пришли служилые — и сразу рухнули эти рабьи надежды, и ничего не осталось, как у бездомного пса.
Высокородные с наслаждением наблюдали за новой жизнью и злорадствовали:
— То всё от Бога идёт. Поглазеют ужотко людишки, како под рукою у страдника!
Всё чаще выслушивали они печалования холопей; не раздумывая, отпускали им семена на посев, щедро дарили им льготы и смотрели сквозь пальцы на такие дела, за которые в былое время карали бы смертью.
Крестьяне толпами переходили к боярам. Но и здесь не находили спасенья. Стрельцы гнали их назад, предавая по пути, в острастку другим, жестоким пыткам.
Отчаявшись, холопи бежали в леса и там рыскали изголодавшимся зверьём в тщетных поисках пропитания.
Не стало проезда торговым караванам и служилым людям на широких дорогах. Разбойные шайки, одетые в остатки рогож и лохмотья, осмелели от голода и, вступали в открытый бой со стрельцами и ратниками.
Воевода запретил убивать полоненных. Их свозили в губу и там всенародно пытали.
С каждым днём грозней разрастались разбойничьи ватаги.
Среди ночи вдруг вспыхивали в разных концах губы зарницы пожарищ. Разбойники в суматохе нападали на амбары, с воем набрасывались на зерно и, нагрузившись тяжеловесными кулями, исчезали в непроходимых трущобах.
* * *
В церквах шли непрерывные службы. Попы кропили святою водою поля, луга и селения, тщетно пытаясь изгнать этим мор.
Дороги были завалены мертвецами и умирающими. Их подбирали стрельцы и сбрасывали в заготовленные могилы.
* * *
Дьяк Микита Угорь на крылечке своей избы выслушивал ходоков из бывшей вотчины Прозоровского.
— Не токмо тягла не утаили, сами себя потеряли.
Угорь ткнулся щекою в ладонь и сочувственно поглядел на измождённых людишек.
— Нету тягла, выходит?
— Нету, родимой! Бог нам сведок!
Поводив по земле веткой черёмухи, дьяк перевёл в небо блаженный свой взгляд.
— Слыхивал яз, что в слободе, у вотчины князь-боярина Симеона, кречетники добрых гусей позавели.
Один из ходоков торопливо вскочил.
— Ворох доставим! Миром всем на тех кречетников выйдем!
Микита приложил руку к груди и застенчиво потупился:
— Мне единого… Отведать бы токмо…
Он помолчал и чуть слышно прибавил:
— А с тяглом пообождем.
Отбивая поклон за поклоном, счастливые, пятились холопи к тыну.
Они уже были на улице, когда Угорь окликнул их:
— Ведь эка — запамятовал. Гуся-то в масле изжарили бы (он еле сдержал клокочущий в груди смех) да начинили бы его не говяжей начинкой, а медною.
Ходоки недоумевающе переглянулись.
— Аль сказываю не складно?
И, почёсываясь сладко об угол избы:
— Казною бы денежной того гуся начинили.
Собрав на лугу всю деревню, ходоки рассказали о требовании дьяка.
— Авось и впрямь заткнём ему пузо гусем тем, — предложил неуверенно один из крестьян.
На него набросились с кулаками.
— Не впервой нам посулы Микиты! Нынче ему гусь полюбился, к завтрему ягнёнок занадобится.
Спор разгорался. Визгливые бабы причитали, точно над покойниками, и упрашивали мужей отказаться от похода на слободу, где ждут их пищали, пушки и стрелы.
Ложился вечер. Из-за ракит, что склонились дремотно над рекой, выглянул месяц, запорошил серебряной пылью темнеющий лес и лёг мёртвым румянцем на тихой глади воды.
Из-за кургана матовым призраком вынырнул всадник.
— Князь Симеон… — узнали холопи и растерянно отступили к деревне.
Старик ходок неожиданно оживился.
— А не бить ли челом боярину на Угря?
Гордо переступал по тающей в лунных тенях дороге дородный конь. Склонив на грудь голову, потряхивался в седле Ряполовский. За ним трусили на клячонках холопи.
— Тужит. С туги прохлаждается, — сокрушённо вздохнули бабы.
— Затужишь, коли ныне и род не в род, и господарство не в господарство, — поддакнул старик и перекрестился.
— Тьфу! — зло сплюнул приземистый мужичонка. — И откель у них така заботушка об отечестве княжеском?
Старик окрысился.
— Ныне-то краше тебе, при служилых?!
— А и не краше — едина стать! И с желчным ехидством спорщик ткнул рукой в сторону боярской усадьбы: — Хлеба-то небось колико было? Куда подевал? — Он свирепел с каждым словом, смешно подёргивал головой и, перебегая от одного к другому, брызгал слюною в лицо: — Бога бы вспомянули! Отпустили бы бояре те хлебушка! Людишки мрут, а они дорожатся! Дождутся ужо! Не яз буду — дождутся!
Заметив холопей, Ряполовский пришпорил коня. Толпа упала ниц.
— Покажи милость, выслушай смердов!
Симеон приказал всем подняться.
— Обсказывайте, на что печалуетесь.
Ходоки передали разговор свой с Угрём.
Симеон затеребил взволнованно бороду и с горечью подумал:
«При Василии Иоанновиче попечаловались бы вы князь-боярину на царёвых дьяков».
Но, едва выслушав холопей, гневно потряс кулаками:
— Изведут вас те дьяки да дети боярские!
— Изведут, господарь!.. — ответила хором толпа. Подавив двумя пальцами нос, князь грузно навалился на тиуна и сполз с коня.
— Коли любо вам слово боярское, — уповайте на милость Божию да не шевелите перстом для того дьяка.
В толпе зашушукались недоверчиво и заспорили.
— А не подашь ему мшела — изведёт.
Ряполовский сердито шлёпнул себя по обвислому животу.
— Думка была у меня после Сретенья[83] на Москве быть. Да, видно, утресь же укачу. — Ободряюще похлопав старика по спине, он сунул ему руку для поцелуя и взобрался на коня. — В думе, в очи царю поведаю, како дьяки людишек изводят неслыханно.
— Обскажи ты царю…
— И обскажу!
Всю ночь не спал Симеон, кропотливо обдумывая каждое слово, которое скажет царю в присутствии всех Загряжских и Биркиных.
«Пускай-ко прознает, како при страдниках! Пускай похвалится, что возлюбленные старосты его из худородных мене чинят людишкам убытков, нежели мы, господари».
Под утро он забылся. Сквозь сон почудилось, будто кто-то задвигал столом.
Приоткрыв смежающиеся глаза, князь похолодел от ужаса: перед ним стоял Грозный.
— Тужишь? — тихо спросил царь и оттопырил кверху клинышек бороды.
— Тужу!.. — через силу выдохнул Симеон и почувствовал, как шевелятся корни волос. — Такая туга, госуд…
Он не договорил и забился в жестоких рыданиях.
— Афанасьевич! Князь! — шепнул растроганно царь и сам вдруг заплакал. — Не надо, Афанасьевич, не надо же, ну, не надо! А детей боярских нынче же яз на дыбу возьму.
С трудом оторвавшись от подушки, боярин приник в благодарном поцелуе к царёвой руке.
— Дыбой их, государь, пожалуй их дыбой! — И, заискивающе заглядывая в ястребиные маленькие глаза:- А гуся того мне. Мне, государь! — Он вскочил и больно вцепился в плечо Иоанна. — Мне! Мне гуся! Дабы не запамятовали холопи, что токмо мы вольны над их животами! Мы, а не Биркины!
Грозный отвернулся к окну и неожиданно ухарски свистнул.
Симеон оторопело попятился к двери.
— Куда?!
Взвизгнул тяжёлый посох.
— Вот тебе Биркины!
Князь оглушительно вскрикнул и… пробудился.
На пороге, усердно сплёвывая через плечо, стоял объятый страхом тиун.
Грязно-серыми лохмотьями рукавов протирало запотевшую слюду оконца старчески-немощное, слезливое утро.