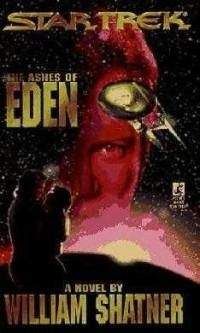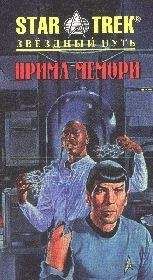Константин Шильдкрет - Розмысл царя Иоанна Грозного
Висковатый пробежал глазами цидулу.
— А печалуется ещё воевода на тяглых. Бегут, мол, людишки от поборов и тягла. Волости поопустели.
Думные зашептались вполголоса. Царь внимательно вслушался в их шёпот. Воронцов поднялся с лавки.
— Дозволь, государь!
И запальчиво выхватил грамоту из рук дьяка.
— Николи того не бывало, чтоб воеводы да приказные царей тревожили челобитными от людишек!
Остальные горячо поддержали князя и повскакали с лавок.
— А либо ужо и холоп не холоп?! — перекрикивали они друг друга. — А либо стало стрельцов недостатно на смердов?
Грозный вонзил посох в голову тигра. Всё сразу стихло. Только Воронцов не мог прийти в себя и, ожесточённо размахивая руками, продолжал что-то выкрикивать. Казначей резко потянул его за полу кафтана к лавке.
Царь подул на стекло, потёр его пальцем и поглядел на площадь.
— Никак, басурмены пришли?
И к дьяку:
— Отпиши по всем губам, что, дескать, в царёвой думе многое множество великих забот и недосуг ей холопьими печалями печаловаться. Токмо пускай те приказные да воеводы по-Божьи творят, людишек через меру не забижают.
Бояре просветлели и благодарно поклонились царю. По знаку Челяднина они гуськом двинулись к двери. В трапезной остались Висковатый и Фуников. Царь раздумчиво потёр висок.
— А и впрямь холопи не к добру воют. Худа бы не было! Нешто к веселью нашему, коль цельными волостями бегут?
Он в упор уставился на Висковатого.
— Надумать бы такое, чтобы людишки про меня лихого не молвили, а всю вину на бояр с дьяками переложили.
Фуников закатил глаза и улыбнулся елейно.
— Надумаем, государь. Сами не сладим — Вяземского покличем.
И, помолчав, прибавил:
— Ещё на выдумки охочи Алексей Басманов да Борис Годунов.
Иоанн милостиво потрепал по щеке казначея.
— Сдаётся и мне — ума палата у того Годунова!
ГЛАВА ПЯТАЯ
От великокняжеских покоев до Благовещенского собора скребут и чистят людишки работные дорогу, обряженную северами в шуршащий саван. Долгою чередою по обе стороны дороги выстроились стрельцы и дворовые. Их лиц не видно: иней густо заткал щёки, губы, глаза, и промёрзлыми комьями дикого мёда зернисто искрятся подплясывающие на ветру бороды. В белесом воздухе прядёт замысловатую паутину свою тихий перезвон малых колоколов. На звоннице, рядом с пономарём, постукивает нога об ногу и зябко хохлится дозорный жилец.
И вдруг шумно очнулся от дрёмы Кремль. Откуда-то издалека рявкнули густые басы:
— Царь! Дорогу царю!
Жилец рванул верёвки, привязанные к языкам колоколов. Суетливо застрекотали медные голоса.
Высоко подняв голову и опираясь на серебряный, покрытый золотом, посох, торжественно вышел из палат Иоанн. Гордый взгляд его устремился в разбухшее небо. Каждая чёрточка каменно-застывшего лица выражала величавую неприступность и мощь.
По бокам царя неслышно скользили по паре телохранители. Их статные фигуры плотно облекали одинаковые кафтаны из серебряной ткани с горностаевой опушкою и с большими серебряными пуговицами до колен. На ногах поблёскивали белоснежные сафьяновые сапоги и золотисто переливались большие топоры на плечах.
Позади телохранителей стройно выбивали шаг восемьдесят московских дворян и жильцов.
На паперти, окружённый боярами, хмуро молчал, дожидаясь отца, Иван-царевич[80].
Грозный издали заметил сына и глазами подозвал к себе Вяземского.
— Накажи ты ему, озорнику, шубу ту запахнуть. Не ровен час — недуг прилипнет.
Князь стремглав бросился к паперти и, низко поклонившись, передал царевичу приказание.
Иван сонно зевнул, поглядел на свои покрасневшие пальцы, подул на них и отвернулся.
«Эка, норовистый удался! И в кого уродился, не ведаю», — подумал не без удовольствия царь и снова вытянул лицо в каменеющую маску величия.
Однако, поравнявшись с сыном, он не выдержал и заботливо попросил:
— Запахнись ты, Ивашенька. Студёно!
Из-за спины выглянул робко Фёдор[81]. Борода Иоанна запрыгала по сторонам.
— Разгорнул бы ты спину, мымра пономарская!
Одутловатые щёки царевича сморщились в блаженной улыбочке.
— Пожаловал бы ты, батюшка, милость невиликую — крохотку поблаговестить.
Катырев умилённо сложил руки на животе.
— Божье дитё. Воистину Божье дитё.
Грозный сердито оттолкнул боярина и, теряя самообладание, набросился на сына.
— Мымра! Не царёва ты плоть, а сука Пономарёва! Сука ты, — вот кто!
Фёдор юркнул снова за спину Ивана и сделал вид, что идёт в церковь. Но, едва отец скрылся в притворе, он подразнил языком поманившего его Катырева и, отдуваясь, свернул к лесенке, ведущей на звонницу.
Перед алтарем Иоанн передал посох Биркину и стал на колени. Протопоп благословил молящихся и, в свою очередь испросив царского благословения, приступил к службе.
Истово бил Грозный поклон за поклоном и, каждый раз приподнимаясь, огорчённо поглядывал на старшего сына.
Царевич стоял, облокотившись на паникадило, и болезненно морщился. После бурно проведённой ночи мучительно тянуло ко сну или на воздух, подальше от мутящего запаха воска и ладана. Минутами им овладевало какое-то странное оцепенение, мимолётное забытье. Тогда вдруг свежело лицо в желтоватом румянце и, как у ребёнка, тянущегося к материнской груди, чавкающим колечком собирались влажные губы. Перед полузакрытыми глазами колеблющеся всплывал образ покорной девушки, с которой, под конец ночи, его оставили одного. Где-то у заставы изловили её, неизвестную, дворяне московские, обрядили скоморохом и привели закоулками в Кремль. Приятно кружится голова у царевича, он широко расставляет руки и… падает на плечо Алексея Басманова.
— Леший! — вырывается у него из груди вместе с мутящей отрыжкой.
— Чего, царевич?
— Повыдумали тоже замест сна да в церковь ходить!
— Молится! — вздыхал успокоенно Грозный и проникновенно тыкался лбом в холодные плиты. — Сподоби, Господи, в добре и силе сыну моему на стол сести московской по скончании живота моего!..
Маленький, сутулый и взбухший, как лубок, вынутый из воды, жался на звоннице Фёдор к пономарю.
— Допусти, миленькой, под Евангелие, эвона в этот брякнуть, в великой.
Пономарь благоговейно приложился к руке царевича.
— Брякни, солнышко! Брякни, молитвенник наш!
И передал Фёдору верёвку от большого колокола. Катырев схватился за голову.
— Прознает государь — пропали наши головушки!
— А ты не сказывай.
Перекрестившись, царевич поднялся на носках и крикнул в свинцовое небо:
— Благослови, Владыко, звоном недостойным моим, херувимов потешить твоих!
Князь смахнул слезу и дохнул в лицо Фёдору:
— Благоюродив бысть от чрева матери своея и ни о чём попечения не имашь, токмо о спасении душ человеческих.
Царевич передёрнулся и зло оскалил редкие зубы, но тотчас же снова выдавил на лице заученную больную улыбку.
…На коленях, то и дело крестясь, полз к Иоанну Фуников. Грозный заметил его и поманил глазами к себе.
Казначей долго лежал, распластавшись на полу, и молился вполголоса. Поднявшись, он едва внятно прошептал:
— Белку со всем протчим взяли, а за щетину норовят по три алтына на батман урвать.
Глаза Иоанна стыдливо забегали по образам.
— Суета сует… Прости, Господи, суету земную мою.
И, откашливаясь в кулак:
— Не можно без воску. А заберут воск, что запрел, — отдавай.
Казначей чмокнул царский сапог, пополз к выходу и, выбравшись на паперть, стремглав бросился к складам.
На складе Висковатый потрясал в воздухе образцами, прижимал их с неизбывной любовью к груди и клялся англичанам в том, что нигде во всём мире нет лучше царёвой щетины.
Толмач переводил, путая и искажая смысл слов рядящихся. Торговые гости упрямо трясли головами и твёрдо держались своей цены.
Казначей отвёл в сторону дьяка и голосом, достаточно сильным для того, чтобы услыхали гости, процедил не спеша:
— А щетинка-то авось на хлебе челом не бьёт. Пускай попримнется маненько. — Точно вспомнив о главном, он прыгнул к англичанам и сочно поцеловал свои пальцы. — А и потешим мы вас таким товарцем… — И, хлопнув толмача по плечу: — Ливонцам не дал! Германцам не дал! Литовцам да ляхам и не показывал! А агличанке задаром отдам! Бери и смышляй: воск то, а либо злато?
Англичане прошли к кругам воску. В стороне, заложив за спину руки, с видом благодетеля стоял казначей.
— Дорого! — перевёл толмач.
— До-ро-го?! Да окстись ты, забавник!
И с горькой обидой:
— А ежели дорого, не можно нам и на щетине терять!
Наконец, после долгих и страстных споров, Фуников ударил с англичанами по рукам.