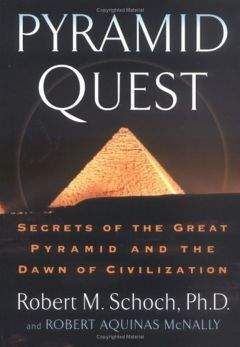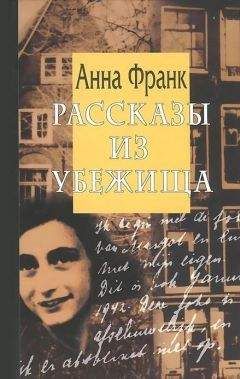Аннелиз - Гиллхэм Дэвид
— Правда? — сощурилась Анна.
— Некоторые — да, — подтверждает она.
— А мой отец знает?
— Именно твой папа попросил моего их нанять.
Вскоре после того, как они поселились в Убежище, у отца Беп, одного из главных хранителей их тайны, нашли рак. Болезнь оказалась столь серьезной, что пришлось нанимать нового бригадира. Так что для скрывавшихся в Убежище работники склада стали ежедневным источником опасности. Если хотя бы один что-то услышит. Или увидит. Или заподозрит. В каком-то смысле они сделались врагами — не лучше мофов.
Но теперь и они исчезли. Наняли новых — не предателей, но все же тех, кто совершенно безразличен к Анне Франк. Пожалуй, кроме одного. Среда. В этот день на мельнице особенно много работы: нужно выполнить заказы до конца недели. Прислонив велосипед к стенке, Анна вдыхает теплый пряный аромат шелухи мускатного ореха и поневоле замечает, что один из работников, закидывая в тележку второй бочонок специй, смотрит на нее в упор. Худой мускулистый юноша с пристальным взглядом бледно-голубых глаз — с бочонком он обращается так, словно хочет похвастаться своей силой. Точно задумал что-то доказать темноволосой еврейской девочке, дочке хозяина. Анна отвечает на его взгляд. У парня нечесаные волосы соломенного цвета. И одет он в сшитые кое-как лохмотья. Квадратная челюсть, а взгляд так тяжел, что кажется, будто в нем поселилось нечто страшное и неотвратимое, отчего глаза сделались цвета пепла. Как его зовут? Она понятия не имела, да и голоса его ни разу не слышала. Вид у него такой, что не очень-то поговоришь. Секунду спустя парень, крякнув, смотрит в другую сторону, точно ее не существует, но Анна чувствует какой-то подъем — сначала внизу живота, а потом во всем теле, ставшем легким, как воздух.
В тот вечер, раздевшись догола, она смотрит на себя в зеркало в платяном шкафу, пристально, оценивающе. В отличие от пышных прелестей Грит, Аннины так и остались вполне девичьих габаритов: интересно, если бы она тоже пряталась у христиан, была бы она такой же? Не отощай она в Бельзене до кошачьего веса, было бы теперь ее тело таким же женственным? Свистели бы ей вслед канадские воины-освободители, как они свистят Грит?
В постели она натягивает на себя одеяло. Грит учила ее трогать себя так, чтобы получить удовольствие, но этот трюк ей пока не удавался. Повторяя про себя наставления, она пытается выманить сладостный трепет. И представляет, каково это, когда мальчик сунет руку туда, где тело скрыто одеждой. Вспоминает того юношу со склада. И вдруг на нее набрасываются воспоминания о Петере. Как они укрылись на чердаке, чтобы побыть вдвоем: Муши мурлыкал у него на коленях, смешно растянувшись лапами вверх. Петер, на три года старше Анны, с небрежной, почти медицинской точностью обсуждает с ней, как устроены мужские и женские гениталии. Сам акт. Меры предосторожности. В то время ее это слегка смущало, но казалось вполне познавательным. То, что она читала в учебнике про мужской орган, подтвердилось — на словах, разумеется, — как и догадка о том, что мальчишки понятия не имеют, как все устроено у девочек. Так что это объясняла уже она. Успев узнать, из чего состоит и как работает женский организм, она смогла в подробностях просветить Петера. Ее собранность и информированность произвели на него сильное впечатление. Но дневнику она признавалась: когда, уединившись в ванной, она исследовала себя, то была весьма озадачена. Как мужчина сможет проникнуть в столь крошечное отверстие? А уж как оттуда извлекается ребенок — вот что и вправду тревожило.
Что ты делаешь? — спрашивает вдруг Марго, точно мыслями о Петере Анна внезапно вызвала сестру.
Вне себя от неожиданности она натягивает одеяло до подбородка.
— Черт возьми, Марго, чего тебе надо?
Хочу знать, что ты делаешь, — отвечает сестра, присаживаясь на край кровати в сине-белой полосатой рванине и завшивленном свитере. Голова обрита и в струпьях, лицо мертвенной белизны.
Анна хмурится:
— А то ты не знаешь, что я делаю, — говорит она. — Прекрасно знаешь.
И ты считаешь, что можно заниматься такими вещами, когда в соседней комнате спят Ян и Мип?
— А что, по-твоему, они еще делают в постели, дурында? В блошки играют?
Перестань говорить скабрезности, — поучает Марго. — Они муж и жена, а ты — девчонка с ветром в голове. Это вредно для здоровья, Анна.
— Что? Что вредно?
Ты сама знаешь что, — уверена Марго. — То самое, чем ты сейчас занимаешься. Трогаешь себя таким манером.
— Ну и как это может навредить?
Это… это неестественно ускоряет твое развитие, — выкручивается Марго.
— Ну, если так, то почему ты сама этим занималась?
Чем? — вопит Марго. — Никогда. — И хмурится.
— Занималась. Я слышала. Когда мы жили в одной комнате, пока не приперся старый осел Пфеффер. А в соседней комнате были мама и Пим, — с нескрываемым злорадством добавляет она. — Ну же, не отрицай, Марго. Я слышала то, что слышала. Может, мне было и поменьше лет, чем тебе, но я понимала, что происходит под твоим одеялом.
Не выдумывай, Анна, — говорит сестра, и Анна чувствует прилив злости.
— Я не выдумываю. Это правда!
Внезапно она слышит испуганный стук в дверь.
— Анна? — зовет Мип. — Анна, с тобой все в порядке? Анна?
Она судорожно дышит, сидя прямо и прижимая к груди одеяло побелевшими на костяшках пальцами. Но Марго исчезла. Там, где она сидела, — пустое пространство.
Анна убеждает Мип, что не стоит беспокоиться, стараясь произносить как можно меньше слов. С ней все о’кей. Словечко, позаимствованное у канадских освободителей. О’кей.
Но, откинувшись на кровати, она вовсе не чувствует себя «о’кей». Скорее чувствует себя ограбленной. Огорченной. Пристыженной. Получается, желание — это ловушка? И, единожды захлопнувшись, оно лишает тебя свободы. И так — всю жизнь. Вот она, правда о желании, решает Анна.
15. Ревность
Я не ревную к Марго, никогда этого не было, не надо мне ни ее красоты, ни ее ума.
Сидя на кровати с тетрадкой на коленях, Анна при свете лампы пишет об одном дне в Биркенау — в последнюю неделю, когда мать оставалась еще с ними. В их бараке была женщина, голландка — за пайку хлеба она могла «организовать» какую-нибудь одежду потеплее. Женщине нравилась Марго, вроде как у нее была дочь тех же лет или что-то в этом роде. Как бы то ни было, мама отдала кусочек своего хлеба, чтобы взамен получить для Марго вязаный свитер. Анна запомнила это потому, что ощутила тогда безумную ревность. Разве это не она — болезненный ребенок? Не она подхватывала любую заразу, какую только можно было подхватить?
Уродливый свитер с истрепанным до бахромы подолом, да к тому же коричневый, а этот цвет Анна всегда презирала, — но как же ей его хотелось. Именно потому, что мама отдала его Марго, а не ей. И устыдилась того, что о ней все забыли. Марго получила свитер, а Анна что? Чесотку.
Через день после того, как мама дала Марго свитер, в их отделении женского лагеря проводилась селекция. Нет, не в газовую камеру. Но, по слухам, в трудовой лагерь в Либенау, далеко от Аушвица-Биркенау, и — какое счастье! — Анна, Марго и мать, все трое, прошли отбор для отправки, но тут лагерный врач обнаружил, что у Анны чесотка. Не заметить ее было трудно: мокрые красно-черные болячки на руках, запястьях и шее. Так что вместо вожделенного Либенау Анну отправили в чесоточный барак. После чего Марго и мать тоже остались. Чего могли не делать. Могли ехать в Либенау. Там не дымили трубы крематория. Просто работа на фабрике. Они могли выжить. Но они остались — потому что у Анны была чесотка.