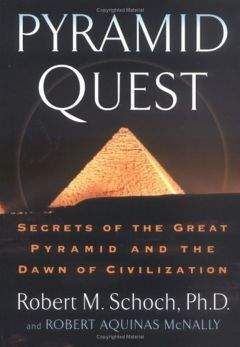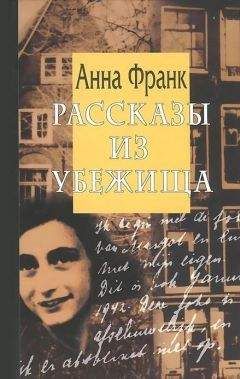Аннелиз - Гиллхэм Дэвид
Анна кивает. Просто сдался. Она сжимает в кулаке сухой боб. Войдя в следующую дверь, она оказывается в тесной каморке, где ночевал Петер ван Пеле. На мгновение задерживается, оглядывая пустоту, потом поднимается по лестнице на чердак. Отец обеспокоенно кричит ей что-то вслед, но ее не волнует, что полы ненадежны и лестница слишком шаткая. Наверху она видит лишь пыль, гниль и мусор. Ржавые кроватные пружины, несколько забытых жестянок с консервированным гороховым супом, заклепки для бочек. И тут в грязном окне она видит его. Конский каштан. Широкие старые ветви древнего, как сама история, великана невозмутимо слушают ветер. Сердце бьется сильнее. Кажется, дерево узнает ее. И листья тоже перешептываются о своем горе.
Позади доносится шум: Пим следует за ней.
— Анна, — слышит она его зов, но, не поворачиваясь, продолжает смотреть на шелестящие листвой ветви.
— А Петер? — безжизненным голосом спрашивает она. — Что стало с Петером? — На мгновение она вспоминает, как они прилегли на диван здесь же, на чердаке. Вспоминает, как билось сердце в его мускулистой груди, когда она положила на нее голову, а он обнял ее за плечи под ласковый шелест этих листьев.
Маутхаузен-Гузен. Так, по словам Пима, называлось место в Германии, где умер Петер, когда мофы эвакуировали Аушвиц.
— Я умолял его остаться со мной, — рассказывает Пим. — Упрашивал отлежаться в лазаретном бараке до прихода Красной армии. Русские были совсем близко. Мы слышали грохот их артиллерии. Но Петер страшно заупрямился. Даже Аушвиц не выбил из него характер. Он не желал оставаться. Конечно, легко верилось в то, что эсэсовцы просто убьют всех, кого не эвакуируют. — Пим мрачно пожимает плечами. — Очень легко. Как легко верилось и в то, что где угодно лучше, там, где мы были.
Анна смотрит прямо перед собой.
— Он никогда не любил долго сидеть на одном месте, — говорит она.
Пим кивает.
— Мне очень жаль, Аннеке.
— Жаль?
— Я знаю, что у тебя к нему были особенные чувства, — говорит он.
Но Анна лишь легонько качает головой.
— Какое-то время мне казалось, что я его люблю, — говорит она. — Но теперь мне трудно представить себе, что это такое.
Отец, высокий и худой, прислоняется к дверному косяку. Дневной свет нежен, точно пепел, он как губка впитывает все яркие цвета. По небу скользят отяжелевшие облака.
— Твоя мать опасалась, — признается он, — что у вас с Петером случится что-то непристойное. Что не уследит.
Анна щурится.
— Ничего не случилось. Ничего. — Она бездумно вытирает слезу со щеки. — Странно, Пим. Думаю, потому-то я и… — начинает она, но потом лишь качает головой. — Трудно объяснить. Думаю, потому-то я так и горюю, что пропал мой дневник.
— Горюешь? — Пим напрягает плечи; в сузившихся глазах — вопрос и в то же время страдание. — Для тебя это горе?
Анна в замешательстве пожимает плечами.
— Возможно, ты считаешь это смешным. Всего лишь каракули на бумаге. Я это знаю и знаю, что это звучит ужасно нелепо, хуже — ужасно эгоистично. И все же то, что я чувствую, это именно горе, другим словом не назовешь. Может, потому, что, сохранись мой дневник, все они были бы со мной… в каком-то смысле. Не только в памяти, но и на страницах дневника.
Пим не отводит взгляда, но тяжело вздыхает.
— Анна. Я должен тебе кое-что сказать, — начинает он. — Но я не знаю, с чего начать. Так что просто возьму и скажу.
Продолжить Пим не успевает — снизу доносятся шаги. Господит Кюглер встревоженно зовет его. Пим подходит к краю лестницы и смотрит вниз:
— Господин Кюглер?
— Простите, что прерываю вас, но… вам звонит какой-то господин.
— Господин? — Пим озадачен и раздражен одновременно.
— Касательно дела, которое мы недавно обсуждали. Боюсь, вам необходимо поговорить с ним.
Пим вздыхает и хмурится.
— Ах да, вы правы. Благодарю вас, господин Кюглер. — И, повернувшись к Анне: — Прости, я должен подойти к телефону.
— Но что ты хотел мне сказать, Пим? — спрашивает Анна. — Что ты собирался рассказать?
Пим явно настороже.
— Мы поговорим позже, — обещает он. Теперь в его голосе проскальзывает нежелание продолжать этот разговор. — Прости, но я должен идти. — И добавляет: — Прошу, не засиживайся тут. Эта пыль… Она вредна.
Ужинать садятся без Яна. Социальная служба в нестабильные времена, что же вы хотите, поясняет Мип, так что за столом они трое: Мип, Пим и Анна. Мип ставит на стол супницу густого свекольника. Пим разглагольствует о статье, только что прочитанной в газете. Когда канадская Первая армия освободила север Нидерландов, молодые женщины пытались слать весточки оставшимся на оккупированных территориях друзьям и родственникам: они писали их мелом на корпусах канадских танков. Пим находит это не только изобретательным, но и вдохновляющим. «Какая вера в будущее!» — восхищается он. Анна, похоже, не замечает чашки с супом перед собой, она не сводит глаз с Пима. Стремление отца забыть пережитые ужасы просто поражает. Он хочет жить «повседневной жизнью», не копаясь в прошлом. И Анне это невыносимо.
— Анна, ты ничего не ешь, — замечает Мип.
Анна моргает. Смотрит в чашку — и приканчивает суп, методично работая ложкой. Вытерев чашку досуха куском хлеба, она с шумом выдыхает.
— Как ты думаешь, Пим, кто нас предал? — задает она наконец вопрос, который неоднократно вспыхивал в ее голове. Тон подчеркнуто будничен, но сам вопрос из тех, что призывают прошлое. Лицо Пима застывает. Прислонив ложку к бортику чашки, он на мгновение погружается в глубокое молчание.
— Понятия не имею, Анна, — говорит он наконец и качает головой. — Правда, не знаю. — И лишь теперь, отгородившись ответом, точно стеной, осмеливается взглянуть ей в лицо.
— Думаешь, кто-то из работников склада?
— Может, и так, — теперь отец помешивает суп, давая понять, что разговор окончен.
— Господин Кюглер считает, что это сделал тот, кого взяли на место бригадира вместо отца Беп.
— Да, с ним было непросто, — кивает Пим, но безо всякого энтузиазма. — Особенно когда он нашел кошелек, который господин ван Пеле уронил на складе. Но доказательств его вины у нас нет. — И он снова принимается за суп.
— А как насчет уборщицы?
Постучав ложкой по чашке:
— Кого?
— Уборщица говорила Беп, что знала о евреях, которые прячутся в доме.
— Анна! — восклицает Мип.
— А ты-то откуда знаешь? — с сомнением спрашивает отец. — Тебе Беп сказала?
— Она сказала Мип, — отвечает Анна. — Я подслушала на кухне.
Мип хмурится:
— Анна, это личный разговор.
— Личный разговор, — повторяет Анна. — Простите, но я не думаю, что об этом могут быть какие-то личные разговоры. Только не на эту тему. Думаешь, Беп сказала правду?
— Конечно, — отвечает Мип, и в ее голосе появляются жесткие нотки. — Ты же знаешь, что Беп не станет врать. Тем более об этом. Как ты могла подумать такое?
— А что еще я могу думать? Со мной она не разговаривает.
— Ну да, у нее сейчас непростые времена, — заступается Мип за девушку. — Тебе не стоит принимать это на свой счет.
— Не стоит? Хм, — говорит Анна. — Интересная точка зрения. Я пережила три концлагеря — и не должна ничего принимать на свой счет!
— Анна! — вступает Пим, но Мип останавливает его.
— Все в порядке, Отто, — уверяет она.
Пим возражает:
— Нет, не в порядке.
— Спасибо, Отто, — благодарит Мип. — Но право, не стоит беспокоиться. Я и вправду не знаю, каково пришлось Анне. И тебе тоже. После того, что вы пережили. Могу лишь представить.
— Ты не можешь этого представить, — поправляет Анна. — Ну а ты, Мип, что думаешь? Ты веришь, что в гестапо позвонила эта уборщица?
— Хватит! — решает наконец Пим. — Анна, прекрати. Если женщина, которая иногда приходила пропылесосить ковры в конторе, поделилась с Беп своими подозрениями, это вовсе не означает, что нас выдала! Город полнится слухами. Происходят непредвиденные случайности. Господи, да в наш дом вламывались грабители — сколько раз, Мип?