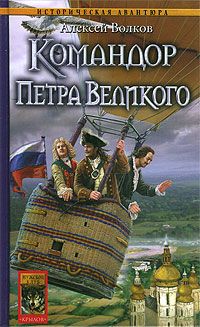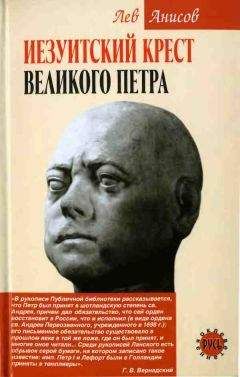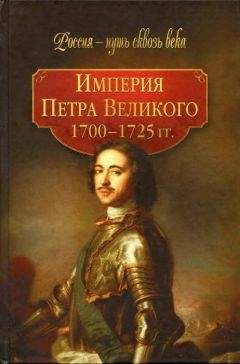Инженер Петра Великого (СИ) - Гросов Виктор
После первого прохода внутри ствола осталась лишь еле заметная царапина. Надо было проходить снова и снова, десятки, если не сотни раз, по каждой нарези, снимая металл буквально по пылинке. А нарезов я задумал четыре — самый простой вариант.
Я вкалывал ночами, урывками, чтоб никто не видел. Руки отваливались, спина ломилась. Резец часто ломался или тупился, приходилось делать новый. Часто сбивался с разметки, нарез шел криво — приходилось начинать заново. Это было похоже не на инженерную работу, а на какое-то первобытное выскребание металла ногтями.
Через несколько недель такой каторги мне всё же удалось прорезать четыре винтовые канавки внутри ствола. Кривые, неровные, разной глубины, с заусенцами. О какой-то точности и говорить не приходилось. Но они были! Это был первый в моей новой жизни нарезной ствол, сделанный практически голыми руками.
Оставалось проверить, даст ли это хоть что-то. Я отлил несколько свинцовых пуль чуть большего калибра. Попробовал загнать одну в ствол шомполом. Шла туго! Забивать ее молотком, как в штуцер, не пришлось. Уже хорошо.
Теперь — выстрел. Идти на полигон с этим самопалом я не мог — сразу вопросы начнутся. Надо было найти тихое место. За заводом, у реки, были кусты и старые, заброшенные сараи. Туда я и попер поздним вечером, прихватив ствол, порох и пули. Присобачил к стволу простейший кремневый замок, который снял с той же фузеи. Зарядил — порох, пыж, пуля (вошла с натугой, как я и хотел). Насыпал порох на полку. Взвел курок. Отошел шагов на пятьдесят к старому дереву, прицелился кое-как и нажал на спуск.
Бабахнул выстрел!
Запоздало пришла мысль о том, что надо было прикрутить ствол к дереву и на курок нажать с помощью веревки — а вдруг взорвался бы в руках ствол?
Отдача показалась сильнее, чем обычно. Я подбежал к дереву. Есть! Пуля вошла в ствол заметно выше и точнее, чем обычно летели пули из гладкого! Я пальнул еще пару раз. Результат был нестабильный — нарезы-то кривые — но все пули ложились гораздо кучнее, чем из гладкого ствола.
И это я еще не ахти какой стрелок!
Оно работало! Даже такая примитивная, кустарная нарезка давала реальный прирост точности! Теперь я знал, что на правильном пути. Осталось «всего лишь» построить станок, который сможет делать это быстро, точно и в нормальных масштабах.
Глава 11
Время шло, Охтинские заводы потихоньку ко мне и моим «причудам» привыкали. Токарный станок, собранный на коленке дело свое делал — цапфы обтачивал, и поручик Орлов теперь реже браковал пушки из-за кривизны. Литейка, под вечно недовольным взглядом управляющего (очень вредный тип оказался), но и под моим неусыпным контролем, стала выдавать меньше откровенного дерьма — «приправы» в формовочную землю и «очистка» металла известью работали. Сверлильная машина тоже помаленьку двигалась, спасибо Орлову — помог выбить у Шлаттера пару толковых слесарей, не таких алкашей, как те, что были сначала. Даже с ружейными замками наметился прогресс — кузнец под моим руководством научился ковать и калить пружины так, что они не ломались после десятка щелчков, а цементированные огнива давали нормальную, жирную искру.
Казалось бы, живи да радуйся. Начальство в Питере, судя по редким визитам капитана Краснова, было довольно — доклады о том, что брака меньше, а качество лучше, уходили наверх. Сам полковник Шлаттер хоть и держался как ледышка, но палки в колеса уже особо не совал. Орлов меня откровенно поддерживал, Шульц, немец-литейщик, стал почти корешем, делился своим европейским опытом (который, правда, тоже был не сильно продвинутым по моим меркам). Даже простые работяги стали смотреть на меня без прежнего суеверного страха, а некоторые — с любопытством и даже уважением.
Но это была только одна сторона медали. Другая была куда темнее и опаснее. Мои успехи, мои нововведения, пусть и мелкие, начали всерьез напрягать тех, кому старые порядки были как мать родна. А таких на заводе, да и вокруг него, было до фига.
Первыми задергались те, кто кормился с воровства и приписок. Смотритель склада Воробьев, например. Раньше он мог спокойно списывать «на угар» или «на бой» куда больше материала — металла, угля, дерева, — чем реально шло в дело. А излишки потом уходили «налево», оседая в карманах самого Воробьева и тех, кто был с ним в теме. Мои же методы требовали более точного учета — я сам прикидывал, сколько чего надо на плавку или на деталь, сам старался вести расход. Да и качество металла стало лучше, брака меньше — значит, и списать «на переплавку» уже так просто не выходило. Воробьев при встречах по-прежнему лыбился, но в его бегающих глазках виднелся недобрый огонек. Я ему явно мешал жить красиво.
Такие же настроения, я догадывался, были и у некоторых чинуш в конторе, которые отвечали за закупку материалов или приемку готовой продукции. Наверняка и там были свои «схемы» — где-то поставщику подписать приемку говна за откат, где-то закрыть глаза на недовес. Мое же стремление к качеству и точности ломало эти устоявшиеся «бизнес-модели».
Потом были мастера старой гвардии, типа обер-мастера Клюева или того же Кузьмича в Туле (уверен, слухи и до него дошли). Они годами сидели на своих местах, пользовались авторитетом, основанным на опыте и старых методах. А тут появился какой-то сопляк-сирота, «колдун», который не только их методы под сомнение ставит, но и на деле доказывает, что можно работать лучше. Это било по их самолюбию, подрывало их статус. Клюев при встречах цедил слова сквозь зубы, всячески тормозил выделение мне нормальных людей или инструмента, ссылаясь на «занятость» и «нехватку». Открыто идти против приказа из столицы он не мог, но гадить по-мелкому не переставал.
Были и другие недовольные. Например, поставщики того же угля или руды. Если завод начнет требовать уголь почище, без серы, или руду обогащенную — это же им лишний геморрой и расходы! Проще возить как есть, а там пусть литейщики сами парятся. Мои же «нововведения» грозили сломать этот удобный для них порядок.
Даже среди простых работяг не все были рады переменам. Вон старик Кузьма — вроде довольным должен быть, все по уму делаем, а все равно ворчит. Кто-то боялся, что новые машины отнимут у них работу (хотя до этого было еще далеко). Кто-то просто не хотел переучиваться, привык работать по старинке. А кто-то тупо завидовал моему быстрому, по их меркам, взлету из грязи в… ну, не князи, конечно, но в человека, которого слушает начальство.
Вся эта глухая враждебность, зависть, страх перед новым создавали вокруг меня плотную, душную атмосферу. Мелкие пакости почти прекратились — видимо, поняли, что меня этим не прошибешь, да и спалиться стало рискованно. Но я чувствовал — это затишье перед бурей. Недовольство копилось. Те, кому я перешел дорогу — а таких становилось всё больше, — не могли простить мне моего успеха. Они видели во мне угрозу своему благополучию, своему положению, своему привычному мирку. И рано или поздно они должны были ударить. Уже не по-мелкому, не исподтишка, а серьезно, чтобы убрать меня с дороги раз и навсегда.
Я это осознавал. И готовился, как мог. Стал еще осторожнее, не доверял никому на сто процентов, даже Орлову или Шульцу — хрен их знает, какие у них там свои интересы. Старался не давать поводов для обвинений, все свои действия подкреплял если не бумажкой, то свидетелями. Но вечно обороняться не выйдет.
Я нутром чуял, что это затишье — хреновый знак. Слишком уж тихо стало вокруг. Воробьев на складе продолжал тянуть резину с материалами, но уже без прежней наглости, больше отмазывался «недовозом» и «нуждами казны». Клюев, обер-мастер, при встрече ограничивался сухим кивком и проходил мимо. Эта тишина была хуже открытой грызни. Она означала, что враги мои что-то затевают. Что-то посерьезнее мелких пакостей.
И мои опасения оправдались самым хреновым образом. Дело было в моей каморке в старом цейхгаузе. Я как раз ковырялся с деревянной моделью станины для сверлильного станка — работа шла медленно, старый Аникей, плотник, больше дрых, чем тесал, приходилось многое делать самому. Каморка моя была тесной, заваленной барахлом. Под потолком шли какие-то старые балки, на которых еще со времен царя Гороха валялся всякий хлам — обрывки веревок, доски, пустые мешки. Я на этот мусор внимания не обращал — ну валяется и леший с ним.