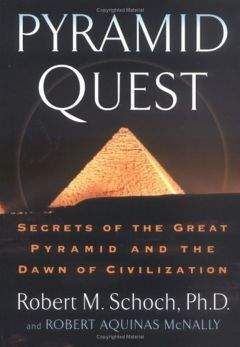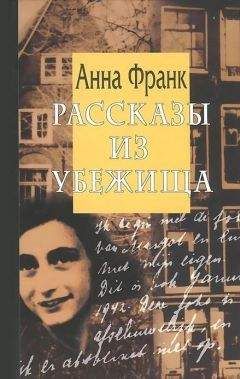Аннелиз - Гиллхэм Дэвид
Но когда она думает о них, в ее глазах нет слез. Что это говорит о ней, об Анне Франк, — даже плакать она может только о себе?
И выводит на странице: «Пожалуйста, не отвечай на этот вопрос».
Когда Анна начинает прислушиваться и задумываться, ей открывается вот что: жители Амстердама считают, что подлинные выжившие — они сами. Перенесшие пять лет немецкой оккупации. Тиранию СС, Зеленой полиции и коллаборантов из Национал-социалистической партии. Потерю велосипедов, радиоприемников, семейных предприятий. Потерю сыновей, мужей и братьев, отправленных в трудовые лагеря. Голодную зиму, когда питались накипью на молочных кастрюлях и жидкой похлебкой на переполненных благотворительных кухнях. А когда забаррикадировали подступы к городу, когда мофы перекрыли газовые трубы и прекратился подвоз продовольствия, когда закончились хлеб и свекла, они выживали, отваривая луковицы тюльпанов на кострах. Когда же закончились и луковицы, они теряли друзей, родных и младенцев, гибнущих от голода. И уж точно они были не готовы сострадать кучке тощих евреев, бормочущих о вагонах для скота, газовых камерах и Бог знает каких еще зверствах. Кто может в такое поверить? Кто захочет в такое поверить?
Она ходит по улицам, все еще ощущая на себе желтую звезду Давида, нашитую на грудь — пусть ее и не видно в зеркале. Многие магазины все еще заколочены, а в тех, что открыты, мало что можно купить. Даже на Калверстраат в витринах выставлены пустые коробки и упаковки, под которыми красуются надписи: «НЕТ В ПРОДАЖЕ». Вонделпарк поредел: деревья спилили под корень и разрубили на дрова — согревать дома замерзающих горожан. Нет резины для шин, нет сахара, чтобы подсластить жидкий чай и безвкусный кофейный суррогат, нет животного масла, нет цельного молока — да и остального негусто. Но зато есть острая нехватка немцев. Вот уж от чего никто не страдает.
В День освобождения по мосту Берлагебруг в Южном Амстердаме прошли канадские бронетанковые колонны — по тому самому мосту, по которому пять лет назад грохотали бронетанковые колонны вермахта. Анна встретила освобождение на койке госпиталя в Бельзене, пытаясь осознать собственную свободу, но с тех пор она успела увидеть в кинохронике грохочущие танки Черчилля, украшенные цветами. Улыбчивые, рослые, мощные как дубы канадские солдаты, все еще в саже после сражений, обнимают восторженных голландских девушек. Когда показывают ликующих или рыдающих амстердамцев, размахивающих флагами или бросающих ленточки, она лишь мрачно молчит.
За многие недели со времени возвращения в мир живых она заново научилась важным мелочам. Покупать хлеб в булочной по соседству, не отламывая тут же кусок, чтобы запихнуть его в рот. Не стараться мысленно расставить очередь на трамвайной остановке по пять человек. Fünferreihen! По пять рассчитайсь! Любой лагерник знает основную единицу измерения заключенных. Это вопрос жизни и смерти.
Аушвиц-Биркенау убавил запас немецких слов Анны до самых основных. И даже теперь, вернувшись в Амстердам, она не может выкинуть из головы словарь Ада. Lager. Не концлагерь, а просто «КЛ», Ка-Эль. Blockführerin, староста барака — зверь в женском обличье и униформе СС. Заключенный, который повторяет эти зверства — капо. Крема — один из пяти крематориев Биркенау, призванных сжигать горы трупов после работы газовых камер. Перекличка заключенных — несколько часов под проливным дождем, леденящей снежной крупой или метелью — зовется Appell. Appell! Appell! Appell! — все еще орут в ее мозгу капо. Appell! Appell! Пошевеливайтесь!
Утро. Солнце поднимается в чистое безоблачное небо. Окно ее комнаты выходит на узенький мощенный булыжником проулок, похожий на свалку. Шлак, мотки проволоки, какие-то запачканные сажей запчасти, ржавая плита, старый холодильник, разбитый унитаз. С кухни доносятся голоса, и она слышит стук в дверь. Мип приносит ей чашку дымящегося чая. Добрая Мип. Надежная Мип: оделась на работу в платье лавандового цвета, туфли без каблука, никаких украшений, лишь немного помады.
— Папа завтракает, твоя тарелка греется в духовке, — говорит она Анне. А потом, с осторожностью: — Полагаю, ты сегодня пойдешь с нами. В контору.
— Пим считает, что мне нужно чем-то занимать свою голову, пока он не подыскал для меня школу.
— Отличная мысль, правда? — спрашивает Мип, но Анна молчит в ответ, так что ей приходится самой заполнять словами пустоту между ними. — Ладно, мне пора, — говорит она сама себе. Но медлит. — Прости, комната очень мала. — Она обозревает тесную конуру. — А может, приклеишь фотографии кинозвезд, как раньше? — предлагает Мип. — Всяко поживее будет.
Но Анна может лишь пялиться на стены, поглощая их пустоту.
— Можно. Хорошая мысль. — Но в ее голосе нет ни капельки убежденности.
Заглянув на кухню, она обнаруживает долговязую фигуру Пима. Сидя в одиночестве за столом, он поглощен какой-то толстенной книгой; в его руке застыла вилка. На лбу — тонкая сосредоточенная морщина. В Убежище Пим читал ей вслух любимого Диккенса на языке автора и при помощи изрядно потрепанного голландско-английского словаря.
В Аушвице мужчин его возраста сразу же отправляли в печь, разве нет? Мысль о том, что он не сможет уцелеть, укоренилась в ее мозгу. Но что-то в отце помогло ему дожить до освобождения. Неужели любовь и надежда, как утверждает сам Пим, — или же безошибочные инстинкты выживания Отто Франка? Она исподволь наблюдает за отцом. А потом выскальзывает из кухни, ничем не выдав своего присутствия.
Мать велела им каждый день находить что-то красивое.
Им — Марго и Анне. Что-то красивое каждый день. Это было, когда ливень превратил женский лагерь в Биркенау в болото. Промокшие насквозь, они работали — перетаскивали куски битого цемента, — и когда Анна упала, капо крепко избил ее резиновой дубинкой. Каждый день ищите что-нибудь красивое, велела мать. Марго восприняла это как урок. Задание: найти что-нибудь красивое. Анна же завязала из слов матери последний узелок надежды. В тот вечер в бараках, рассматривая синяки от побоев, она нашла красоту в их цвете: точно букет фиалок.
Ищите красоту каждый день — и выживете даже в Биркенау.
Вот только не всем удалось. Только Анне.
Волосы так быстро отрастают, они уже достигли шеи. Зеркало говорит: на ней уже не полосатые лагерные кишащие вшами лохмотья, а человеческая одежда. Красное суконное пальто, лишь немного потертое по низу подола. Юбка и блузка. Настоящее нижнее белье. В зеркале мелькает чья-то тень. Из-за ее плеча на ее отражение смотрит Марго. Даже после смерти сестра не перестает кашлять — глубоко, надрывно. На ней — то же самое, в чем их последний раз фотографировал в Убежище Пим: вязаный свитер с коротким рукавом, подарок Беп, и зеленая эмалевая заколка для волос — на день рождения мама сама заколола ей волосы старшей дочери.
На твоей блузке пятно, не удерживается от замечания Марго.
Анна хмурится. Рассеянно трет большим пальцем бледное пятнышко.
— Не важно, — отвечает она.
Не важно? Можно ходить замарашкой?
— Это просто пятно. Не важно.
Правда? Думаешь? Помнишь, что нацисты звали евреев «грязными»?
— Так что, мое пятно — пятно на всем еврействе? Это от отбеливателя.
Я просто говорю, что по одному человеку судят всех.
— Мамина дочка, ты смотри, — замечает Анна и тут же вглядывается в отражение сестры. — Может, лучше бы это была ты, — шепчет она.
Марго встречается с ней взглядом из-за тонкого зеркального стекла.
— Я вижу, как на меня смотрят, — выдыхает Анна. — Искоса, из-за плеча, словно на пустое место, где должна быть ты. Ты хотела стать медсестрой, Марго. Ехать в Палестину принимать роды. А что мне делать со своим будущим? — спрашивает она, но ответа не слышит. В дверь стучит отец, и Марго исчезает.