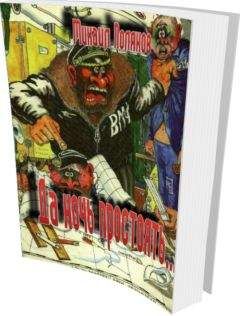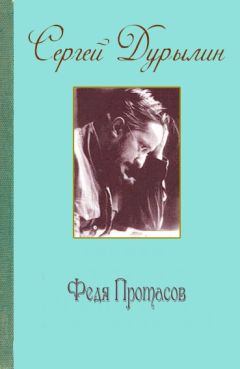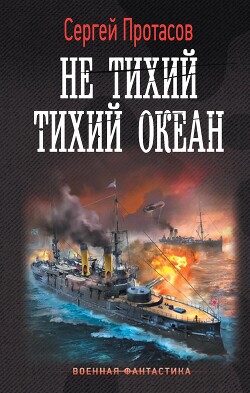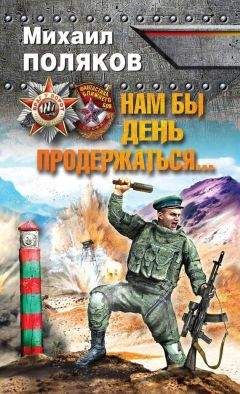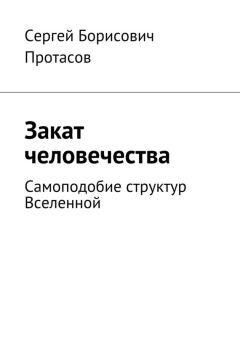Нам бы день простоять, да ночь продержаться! - Протасов Сергей Анатольевич
Одной из первоочередных целей всех этих экспромт-десантов являлся захват японских береговых укреплений восточного берега пролива Урага. А выделенные для этого солдатики от воздействия качки на переходе и последующих резких маневров, да еще со взрывами и стрельбой, имели мертвенно-бледные лица с неестественным зеленоватым оттенком и едва могли передвигать ноги. В общем, почти полностью потеряли боеспособность. Офицеры держались чуть лучше. Но, несмотря на все их усилия, к возвращению разгрузившихся катеров обе выделенные роты все еще рассаживались по шлюпкам у борта «Амура», оглашая окрестности непотребными звуками, сопровождающими тщетные попытки вывернуть наизнанку многочисленные давно пустые желудки. А время шло! Так что измазаться в грязи все же пришлось морякам.
Хотя ни типа укреплений у мыса, ни их точного расположения никто не знал, дожидаться возвращения отправленных к форту в разведку морпехов не стали. На берег передали ратьером приказ о немедленном выдвижении в направлении Фуцу всех уже имевшихся на берегу сил. Спешили, надеясь разобраться по ходу дела.
Десантную роту из Охори перевели в подчинение лейтенанта Азарьева и тоже бросили на запад. Когда уже выходили из деревни, его отозвали для получения дальнейших инструкций, а остальные моряки и морские пехотинцы двинулись в указанном направлении, пытаясь догнать разведку.
Как назло, дождь только усиливался. Довольно скоро сквозь сырую серую хмарь впереди проступили неестественно правильные очертания холма с плоской вершиной, выделявшегося на фоне низменной равнины, примыкавшей к мысу с востока. Тут подоспел и посыльный от головного дозора с сообщением, что впереди имеется какое-то большое, скорее всего, каменное сооружение. А когда с него сверкнули вспышки выстрелов тяжелых орудий, а чуть погодя докатился и грохот залпа, сомнений в том, что это и есть искомый форт, не осталось.
Примерно версту, оставшуюся до японских позиций, преодолели бегом. Морпехи, увешанные оружием со всех сторон, быстро ушли вперед, мерно дыша и словно плывя над грязью. А вот морячкам такая легкость оказалась недоступна. Но решимости это не убавило. Они продолжали бежать вперед почти молча, лишь порой с тихими матюгами сквозь хрип «выплевываемых» легких вытаскивая сапоги, вязнувшие в особо топких местах даже на дороге.
А контуры чужой крепости проступали все явственней. Сквозь пот, заливавший глаза, уже было видно высокую крутую обваловку тыловой стены с глубоким прогалом в середине. Там, должно быть, ворота. За тыловым валом высился ряд мощных земляных брустверов, смыкавшихся между собой и образовывавших гораздо более высокую фасадную стену. На ее фоне торчали толстые короткие стволы тяжелых гаубиц и четыре силуэта скорострелок за щитами на правом крыле. Все пушки стояли в парных двориках, совершенно открытых сзади.
Едва разглядев это, моряки, с непривычки да в азарте быстро загнавшие себя, охотно подчинились брошенному кем-то от безысходности: «ШАБАШ!» Все резко встали, начав срывать с плеч винтовки, чтобы стрелять прямо отсюда, шагов с семисот. Но оружие показалось неимоверно тяжелым, да и руки после такого бега ходили ходуном. Так что пришлось сначала отдышаться. А тут и давешний посыльный от морпехов снова подскочил, на этот раз с матюгами.
– Куда, сука, винт тянешь! Ты ж сейчас из ворот в поле не попадешь, спугнешь тока или своих же положишь сдуру! Давай вперед, пока оттуда твою рожу красную не разглядели! Сияет, как фонарь перед борделем.
И дали, под «чутким руководством»! Подгонявший моряков кондуктор-морпех с нашивкой «3в» на рукаве, одним красноречием отнюдь не ограничился, доведя «общую установку» до особо «тугих» и другими простыми и понятными способами. Спорить с ним желающих не нашлось. Что значит эта нашивка, уже знали.
Когда еще только начали формировать «Токийский экспедиционный корпус», Рожественский распорядился расширить штат морской пехоты за счет наиболее отличившихся в предыдущих высадках бойцов. Туда брали только после трех боевых высадок на вражеский берег, и таких «новобранцев» награждали при этом соответствующим знаком на рукаве. Вскоре в солдатской среде это «3в» трансформировалось в «ЗВ», что расшифровывалось как «Зиновьевы войска», и распространилось на всю морскую пехоту. С такими предпочитали не связываться.
В результате, спустя в общей сложности примерно четверть часа изнуряющей «легкой атлетики», отставшие моряки тоже с ходу вышли на мост через широкий и глубокий ров, окружавший укрепление. К этому времени форт уже обстреливали откуда-то с моря, но накрытий пока не было.
Тут нашу атаку обнаружили. Точнее, поняли, что с тыла пришли чужаки, а вовсе не подкрепление. Но предпринять что-либо не успели. Передовая волна «Авроровцев» уже подорвала массивные деревянные ворота в глубине узкого прохода в высоком земляном валу, ограниченного тяжелой кладкой из темных, почти черных прямоугольных камней, и освободила единственную дорогу для основных штурмовых сил.
Схватка прямо во внутреннем дворе батарей, в проходах и на лестницах из того же темного камня и в орудийных двориках, им же облицованных изнутри, оказалась короткой. Артиллеристы, не имевшие личного оружия, отбивались чем попало, но остановить натиск не смогли. За считаные минуты все сооружение, в том числе и пороховые погреба, оказалось в наших руках. Тут же подали ракетами опознавательный сигнал «Амура», что избавило от продолжения обстрела с «Нахимова», едва проступавшего сквозь дождь примерно в пятнадцати кабельтовых южнее, а возможно и с «Дмитрия Донского», проявившегося размытой серой тенью на северо-западе. Тут подоспел и Азарьев с подкреплениями и толмачом, чтобы разобраться в японском телеграфе. Сразу начали налаживать связь с Кисарадзу.
Потом совершенно неожиданно пришлось отражать атаку вражеской пехоты со стороны моря. Как выяснилось позже из опроса пленного, приведенного «Нахимовцами», в этом укреплении квартировала еще и противодесантная рота территориальных войск, которую комендант форта двинул к берегу, когда стало видно русский крейсер, застрявший на мели, и что он начал спускать шлюпки, должно быть для высадки своего десанта.
От прямой атаки командир роты благоразумно воздержался. Он был уже опытным воякой, списанным по ранению, так что понимал, что его сопляки да инвалиды такое просто не осилят. К тому же имелся риск быть сметенным первым же корабельным залпом. Вместо этого он приказал ждать, засев в кустарнике и мелколесье, отделявшем пляж от батареи, чтобы сразу ударить в штыки, смешавшись с десантом, который наверняка пострадает при высадке в такую погоду. Он надеялся, что это уравняет силы. И еще на внезапность.
Но прежде чем шлюпки добрались до берега, японцы услышали хлесткие винтовочные выстрелы у себя за спиной и вернулись. Во время этого обратного броска пленный подвернул ногу и отстал от своих. Потом пытался убить русского командира, чтобы сразу убили и его, но не смог. Забитая грязью винтовка дала осечку, а ударить штыком не хватило сил.
А остальные японцы пытались отбить обратно свою потерянную крепость. Однако на расчищенной площадке, примыкавшей ко рву, атакующим колоннам негде было укрыться, в то время как их расстреливали из-за брустверов прицельным ружейным огнем.
Атака сразу захлебнулась в крови и грязи, и уцелевшие откатились обратно в кусты, сместившись чуть к югу, чтобы избежать встречи с теми, кто придет сюда от крейсера. Потом они отступили еще дальше в сторону мыса Исоне, выбравшись из зарослей на пляж лишь на самой границе видимости с брустверов. Их почетно проводили дружными ружейными залпами, но с дальности тысячи в полторы шагов да в дождь вряд ли в кого попали.
Батарея мыса Фуцу теперь была наша. Она оказалась настоящей крепостью, представлявшей собой насыпной пятигранник, окруженный широким рвом с водой. Его самая длинная грань-основание была развернута на северо-восток в сторону Кисарадзу. Внутрь вел узкий мост, перекинутый через ров на северо-востоке. Остальные четыре грани примерно одинаковой длины образовывали батарейный периметр, окружавший внутренний двор. Он был отсыпан из местного темного, почти черного грунта и укреплен кладкой из черного андезита. Все его грани смотрели в сторону пролива. Наверху размещались три стандартных двухорудийных дворика для 280-миллиметровых гаубиц, выложенных из того же андезита, и две парные позиции для 120-миллиметровых пушек Круппа в таком же исполнении [10].