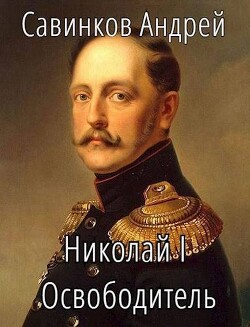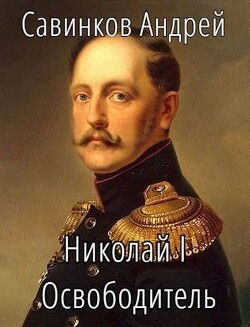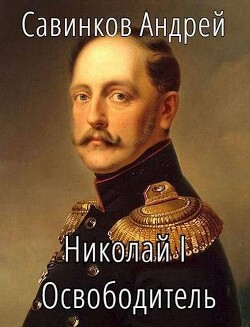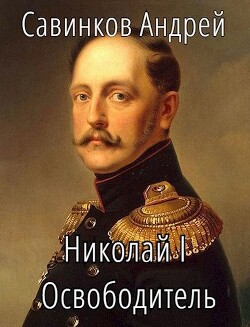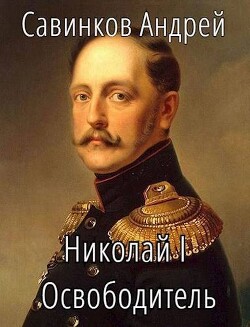Николай I Освободитель // Книга 10 (СИ) - Савинков Андрей Николаевич "Funt izuma"
— Что еще расскажите интересного?
— Очень помогла железная дорога, однако очевидно необходимо переложить узкоколейку на нормальную колею, — принялся выдавать мне свои мысли генерал. — И конечно имеет смысл проложить дорогу не только до Геок-тепе но и дальше. В сторону Самарканда, Ташкента и Ферганской долины. Тогда дорога из чисто военной будет иметь еще и торговое значение. А еще связь, без хорошей связи мы там посреди пустыни как без рук…
— Связь всему голова, тут спорить сложно, — кивнул я и мысленно обратился к другому вопросу. Радио у нас уже было изобретено. Не в качестве средства связи, к сожалению, а в качестве пока только теоретического принципа.
Самое смешное, что ускорению данного изобретения поспособствовала фантастическая книга молодого фантаста Льва Толстого — да, кажется, того самого с поправкой на все раздавленные к этому времени бабочки — в которой он описал «беспроволочную связь» и возможности ее применения в военном деле. Толстой в этой истории — слабо знаком с его оригинальной биографией, однако этот персонаж совершенно точно унаследовал от нашего варианта непоседливою натуру, причем в полном объеме — служил в воздухоплавательном отряде и, видимо, проникся несовершенством местных средств коммуникации, выплеснув свою боль на бумагу. Получилось, нужно признать, весьма талантливо.
Роман «Десять тысяч километров, не ступая ногой на поверхность» в свою очередь вдохновил группу моих физиков поэкспериментировать в нужном направлении, что не так давно привело к теоретическому обоснованию возможности «передачи электрических волн на расстоянии». Это еще конечно не радио, но научная работа была мной замечена, удостоена Николаевской премии в 1854 году и конечно же был выдан грант на дальнейшие разработки. Откровенно говоря, к идее получения полноценной рабочей системы беспроводной связи в обозримом будущем я относился весьма скептически — все же по многим отраслям науки мы еще просто не дошли до уровня конца 19 века — однако даже такой прогресс радовал. Может лет через десять…
В начале 1855 года дала первую плавку домна, построенная на новом заводе в поселке Донецк. Не уверен, что этот Донецк находится на абсолютно том же месте что и его аналог из моей истории, но в идеологическом плане он совершенно точно являлся его копией.
Собственно необходимость постройки в этом месте нового металлургического кластера, работающего на криворожской руде и местном угле диктовала сама география и исходящая из нее логистика.
В многочисленных шахтах, выросших на берегах Северского Донца, добывалось около половины всего пригодного для металлургии каменного угля империи. Недавно было обнаружено огромное месторождение этого ресурса на востоке киргизских степей, — видимо то самое Экибастузское, о котором я имел более чем смутные представления и уж точно не смог бы указать его точное положение на карте — однако, когда туда будет дотянута железная дорога, было еще не понятно, поэтому упор мы продолжали делать на богатства Донбасса. Если брать абсолютные числа, то на 1855 год добыча угля в границах всей империи ожидалась на уровне 6 миллионов тонн, из которых порядка полутора миллионов экспортировалось за границу, два миллиона уходило на выплавку чугуна и стали, а остальное сгорало в топках паровозов, электростанций, паровых машин заводов и печах населения.
Так вот насчет логистики: донецкий уголь по железной дороге шел на запад на предприятия Екатеринославка и Кривого Рога — магистрали, идущей через Харьков уже давно, не хватало, поэтому было проложена новая дорога, проходящая несколько южнее и соединяющая два промышленных района напрямую — а в обратную сторону немалую часть вагонов приходилось гнать порожняком, удорожая таким образом стоимость конечного продукта.
В такой ситуации максимально логичным шагом было сделать упор на развитие металлургии в районе добычи угля, чтобы загрузить свободные железнодорожные мощности криворожской железной рудой.
Новый завод — а фактически тут планировался не один завод, а целый производственный кластер — в Донецке, по плану должен был дать империи еще около 400 тысяч тонн металла ежегодно, чем увеличить общую выплавку чугуна в империи почти на 15%. Опять же если обратиться к абсолютным числам, то на 1855 в стране планировалось выплавить больше двух миллионов тонн чугуна, что было вторым результатом в мире после Великобритании. И нужно отметить, что тут мы островитянам уже буквально наступали на пятки, опережая при этом в темпах роста.
Для сравнения в 1810 году в империи выплавлялось всего 160 тысяч тонн чугуна, а в 1830 — около 360 тонн. За прошедшие 25 лет мы сумели нарастить — во многом благодаря железным дорогам которые пожирали металл с просто невероятной скоростью, только на производство одних рельс уходило до 15% всего выплавленного в империи чугуна и больше четверти всей выплавленной в империи стали — показатели нашей черной металлургии примерно в шесть раз, и останавливаться на достигнутом никто не собирался.
Опять же если сравнивать наши показатели с Великобританией, то островитяне, начав с тех же 160 тысяч тонн в 1810 году к середине 1850-х продолжали опережать нас где-то на пятую часть выплавляя в год по 2.3 миллиона тонн чугуна. При этом если брать статистику на душу населения, то британцы опережали нас на просто неприличные величины — в десять раз.
(Производство чугуна в тыс. тонн в год. Черным — реал, красным — АИ)
Если же обратить свой взор на ближайших преследователей двух главных промышленных держав планеты плелись далеко в хвосте. Третьей была Франция, с трудом перевалившая за семьсот тысяч тонн чугуна в год, на четвертом месте были США — около 500 тыс. тонн, на пятом — Пруссия — 230 тысяч тонн, Австрия — примерно 140. Показатели остальных стран были настолько незначительные, что их даже приводить в общей статистике нет смысла.
Забавно еще было то, что минимум треть нового завода была построена на французские деньги. Экономика России, подпитываемая американским золотом, и растущим год от года внутренним спросом пухла как на дрожжах, что выплескивалось в виде масштабных инфраструктурных проектов, заработать на которых хотели не только отечественные предприниматели, но и иностранные. Мы заходу капиталов с запада не препятствовали, наоборот поощряли внутреннюю конкуренцию, так что донецкие заводы были далеко не первыми промышленными объектами, куда успели вложиться французы, англичане, австрийцы и голландцы. Про товарищей по Торговому союзу и говорить нечего, тут и так все понятно.
В 1855 году мы наконец доросли до уже по-настоящему гроссмейстерского показателя в 2000 тысячи километров железнодорожных путей, построенных за 12 месяцев. Насколько я помню из моей истории, Россия на такой показатель вышла только в конце 19 века и то не на долго, потом темпы снизились и больше никогда не были столь высокими.
Было начато строительство сразу нескольких больших мостов: третий железнодорожный мост через Днепр — после Смоленска и Екатеринослава — в Киеве, второй мост через Волгу — близ Самары. С ним вообще получилось забавно — только двумя годами ранее в 1853 году была наконец закончена ветка от Москвы через Ярославль и Вятку в Пермь — с парой мостов через Волгу и Каму — долженствующая соединить два отдельных ранее железнодорожных острова империи, и уже сейчас стало понятно, что этой артерии нам не хватит. За пятнадцать лет, с тех пор как было принято принципиальное решение о строительстве дороги через Ярославль, население, а с ним и промышленность, Зауралья выросла настолько, что одной веткой отделаться стало просто невозможно. А если добавить к этому скорое начало освоение дальневосточного региона, то впору было задуматься о том, что и одного Транссиба может стать недостаточно. Так что мысли о прокладке второй широтной ветки на тысячу километров южнее Транссиба, через всю северную часть Туркестана, уже вполне имелись и даже потихоньку оформлялись в полноценные инвестиционные проекты.