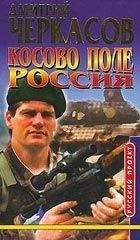Вячеслав Рыбаков - На мохнатой спине
— Ненавижу революции, — сказал Коба.
Я чуть со стула не свалился. Дожили, подумал я.
Почему-то вспомнилось, как нас в ночи вообще без единой звезды выгружали на туруханской пересылке. Перед пешим этапом надо было построиться, что-то не клеилось, нас пересчитывали по головам и раз, и два, и никак не сходились численность бумажная и численность живая; нас держали на режущем ветру полчаса, час… Напротив мерз и молча терпел, помаленьку зверея, взвод охраны, но они хоть были в шинелях, а мы — в трепещущих арестантских робах. И тогда мы обнялись. Сколько осталось сил, обхватили деревенеющими руками хлипкие плечи друг друга — Коба, Мироныч, Яша, Серго, Слава, Зиновьев с Каменевым, уже тогда, при всем внешнем несходстве, чем-то похожие на Траляля и Труляля из «Алисы», Бухарчик, Ягода, я, Федька Ильин-Раскольников, самый знаменитый невозвращенец прошлого, тридцать восьмого, года, и все прочие, несть им числа, Трилиссеры и Шпигельгласы. И, давясь плотным, как ледовитая вода, туруханским ветром, перхая, задыхаясь, затянули: «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке…»
Оскальзываясь сапогами по натоптанному снегу и путаясь в полах длинной шинели, одной рукой придерживая мотающуюся саблю, а другой — тряся жалким револьвером, вдоль строя бегал ротмистр и, срываясь на петуха, орал: «Прекратить!» Те из нас, кто шел не по первой ходке, рассказывали, что он служит тут, сколько они себя помнят, оттого и получил, верно, странное прозвище — Вечный Руслан. У мерзнувшего караульного взвода чесались винтовки, и парни только ждали приказа; хоть какое-то развлечение и хоть какой-то в их стоянии смысл… Но приказа Руслан так и не дал. Потом я понял: он ведь законность соблюдал, а не светлое будущее строил. Приди ему хоть на миг в голову, что мы — не преступные люди, а всего лишь помехи на пути прогресса, нас бы мигом положили там вместе со всеми нашими песенками.
Но тогда мы чувствовали себя несгибаемыми великанами, наперекор всей косной силе старого мира обнявшимися навсегда. И мечтали, мечтали, мечтали. Верили, верили, верили. Ведь было ясно, было очевидно любому мало-мальски образованному человеку, что стоит лишь пасть нелепому, отжившему, насквозь прогнившему, точно плесневелый гриб, режиму, всей этой жадной до власти своре трясущихся и мямлящих стариков в лентах и орденах, как жизнь сразу наладится: все обратные связи и социальные лифты заработают, материальные блага хлынут как из рога изобилия, потому что раскрепостятся производительные силы, и люди, унылые подневольные рабы самодержавия, при новом строе буквально бросятся работать. И рухнет вековечная стенка между нами и Европой, мы сразу станем там своими, долгожданными. Ведь это они придумали социализм, а мы его сделаем… Ледяной наждак ветра продирал до кишок, губы трескались в кровь, на вдохах смерзались связки в глотках, но мы, ни в единую ноту не попадая, упрямо тянули: «Не дам и самой ломаной гитары…»
— С каких это пор ты их возненавидел? — негромко спросил я.
Он некоторое время помешивал ложечкой чай.
— Так, знаешь, мало-помалу. Вот и ты недавно говорил об умных и верных… Да и вообще. Ненавижу. Моя бы воля — не допустил бы ни единой. Время фанатиков и жуликов, подхалимов и авантюристов… — Кончиком ложечки он взял варенье, положил в рот, покатал там, разминая языком, и проглотил. На миг его рябое лицо стало блаженным, почти детским. — А если уж предыдущий режим довел народ до исступления и революция рванула, надо поскорей ее свернуть, заткнуть, превратить в праздники и годовщины, оставить от нее только имена героев и память славных побед… И снова строить нормальную жизнь для нормальных людей. Для честных работяг, а не речистых пройдох. Для умельцев, а не для убийц.
— Коба, дорогой, но ведь революции иногда и происходят из-за того, что окостеневшие режимы становятся раздольем именно для пройдох и болтунов, а честным работягам ходу нет.
Он шумно отхлебнул чаю.
— Вечно ты какую-нибудь гадость скажешь…
— Я просто размышляю. Кто-то из великих сформулировал: зло — это добро, перешедшее рамки применимости.
— Знать бы заранее, где эти рамки, — сварливо отозвался он, — не жизнь была бы, а хванчкара.
Порывшись во внутреннем кармане френча, он достал какую-то бумажку, сложенную вчетверо, и кинул мне через стол.
— Сегодняшняя, — скупо пояснил он. И, не утерпев, ввернул: — Вас, дипломатов, этаким не обременяют.
Я развернул, ничего хорошего не ожидая. И точно.
Это оказался бланк расшифровки строго секретной депеши с заголовком «Москва ЦК ВКП(б) тов. Сталину, тов. Берии», входящий номер 742. И ниже — будничный бюрократический текст, отпечатанный на видавшей виды машинке со сбитой лентой и подскакивающими буквами: «Ввиду засоренности края правотроцкистскими и кулацко-белогвардейскими элементами просим ЦК разрешить дополнительные лимиты по первой категории на 1 тыс. человек, по второй категории на 5 тыс. человек. Секретарь крайкома Карнаухов».
Я аккуратно сложил бумажку и щелкнул ее по столу обратно Кобе.
— Тысячу на расстрел, пять — в трудовой спецконтингент, — сказал Коба, глядя на меня даже с некоторым любопытством.
Я молчал. Досчитал до десяти. Потом до двадцати. Попробовал варенья: вкусно. Прихлебнул чаю: уже не жгло.
— У Лаврентия на объектах вечно рабочих рук не хватает, — проворчал Коба. — Смертность в среднем по лагерям мы все-таки понизили, но объем работ-то растет… А ты мне про рамки.
— А по первой категории зачем столько? — все же не выдержал я. — Хороший способ строить нормальную жизнь для работящих ребят, а, Коба?
Он со свистом вдохнул и выдохнул воздух носом.
— Маркс чего-то недодумал, — признался он. — У Ильича на это, наверное, просто времени не хватило, помер, а может, и мозгов. Лейба, с…к, ему все извилины заплел своими трудармиями и вообще идеей, что взявшие власть большевики должны относиться к России как колонизаторы к покоренной стране дикарей. А это же вопрос вопросов. Ради чего человек работает? При капитализме — ради денег. Бедный — чтобы с голоду не сдохнуть, а кто посостоятельней — чтобы всех обскакать, стать вовсе богатым, сидеть на золотом толчке и об окружающих ноги вытирать. Стимул — самоутверждение, индивидуализм. Это отвратительно, но это понятно. А у нас? Понятия не имею. Нигде не написано. Мы как кур в ощип попали. И получается, что пока мы этого не поняли, остается только один стимул. Вернее, два. Они накрепко связаны один с другим. Воодушевление и страх. На одних лучше действует воодушевление, но это самые замечательные люди, а таких всегда меньшинство. Молодежь мы так воспитываем. И, может, ей страх уже будет не нужен. Потому я и долдоню вам каждый день: мир дайте, мир! Дайте время, чтобы они в возраст вошли, своих детей завели и воспитали уже сами, взяли дела в свои руки… Если их вот сейчас выкосят, останутся только те, кто, коли не дают надежды разбогатеть, работать может только со страху. А сколько можно такое длить? — он с отвращением отмахнул шифровку ладонью по столу, и та спорхнула на пол. — Вот о чем надо думать… Вот бы чем заняться: открыть, ради чего человек при социализме работает. Но ведь не дают спокойно разобраться, тормошат по пустякам. То война, то блокада, то санкции какие-нибудь…
Он поднялся. Наискось пошел по комнате и, на миг заслонив головой пристальный красный глаз звезды на башне, взял с подоконника трубку. Принялся раскуривать. Френч опять съехал, и Коба опять дернул плечом.
— Одно могу тебе обещать, — проговорил он почти мстительно. — При следующей ротации этот Карнаухов у меня загремит. Нельзя при власти оставлять людей, которые шлют вот такие шифровки. Они вообще людей сгноят, всех без разбору. Без категорий. Не напасешься на них.
— Коба, погоди. Ведь тем, кто будет вязать его и его аппарат, волей-неволей придется стать еще хуже!
Он вздрогнул и посмотрел на меня исподлобья так, что я понял: если я и не перешел черту, то уж всяко топчу ее.
Потому что поставил под сомнение его судорожную, последнюю надежду очередной ротацией наконец-то очистить мир и оставить в нем лишь тех, кто пригоден к коммунизму.
Он понял, что я это понял. Надо отдать ему должное: людей он понимал. Несколько мгновений, не мигая, он смотрел мне в глаза и явно пытался определить: испугался я или всего лишь огорчился от того, что допустил бестактность? Даже думать не хочу, чем кончилось бы дело, если бы он решил, что я испугался.
Дымя трубкой, он неторопливо вернулся к столу, уселся и вдруг предупредительно спросил:
— Дым не мешает?
— Когда мне твой дым мешал?
— Мало ли… Годы идут, бронхи портятся… — И тут же, словно не отвлекался на попытку разглядеть, не стал ли я врагом, вернулся к тому, что его так заботило: — Понимаешь, я тревожусь очень. Если нынешних молодых положат, другого шанса уже не будет. Кризисы перепроизводства возможны не только в материальной сфере. Перепроизводство смыслов куда страшней. Капитализм захватывает область идеалов. Даже мечты становятся товаром. Я же вижу, скоро из всех дыр полезут говоруны, и каждый будет предлагать свой вариант светлого будущего. А волноваться будут лишь о том, как бы выкачать из простаков побольше денег для благоустройства собственного настоящего. На каждого рядового окажется по пять комбригов и пятнадцать политруков, и все пойдет вразнос.