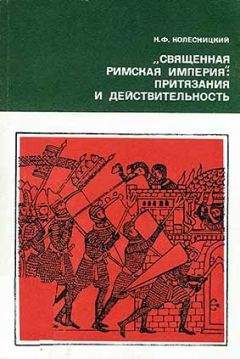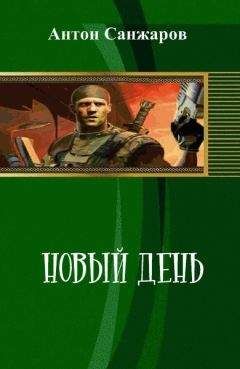Антон Требунский - Ганза. Книга 1
Два дня назад в столицу прибыло посольство от свейского короля Густава. Всего час, как покинул царскую опочивальню посол, а государь московский уже весь был мучим терзаниями. Передав положенные приветствия от свейского брата Густава Адольфа, посол напомнил о договоре, который заключил его король с батюшкой нынешнего московского государя, Борисом Феодоровичем Годуновым. Тем самым договором, который Федор так опрометчиво продлил при своем помазании на царствование.
Тогда казалось — когда еще будет мир в свейском королевстве. Густав II Адольф ни на минуту не прекращал боевых действий: с Речью ли Посполитой, с Кристианом Данемаркским. А так нужны были Федору поддержка и признание соседей московского царства. Тем более, что государство польско-литовское, как всегда, на земли московские зарилось. Сигизмундовы люди среди черни русской слухи дрянные распространяли, после смерти Бориса Феодоровича сразу все плохое припомнилось. И царевич Дмитрий, и бесконечные Ливонские войны. Все, что нашли. А чего не нашли, сами придумали. Хорошо хоть вовремя были на корню пресечены очередные попытки Сигизмундовы чернь на бунт поднять. Он таких попыток не прекращал еще с самого правления отца его, Бориса. Благо, мятежник главный — некий монах-расстрига Гришка, объявивший себя чудом спасшимся царевичем Дмитрием — еще при батюшке был пойман и головы лишен.
Рано умер Борис, пусть и прожил жизнь долгую, а все мало ему казалось. Не прошло и двух лет, как московской победой завершились Ливонские войны, занемог и слег батюшка. Сколько знахарей и лекарей не собирали, все бестолку — отошел вскорости, неделю промучавшись.
Злые языки говорили — немцы отравили Бориса, за то, что тот орден Ливонский с навозом смешал и их земли раздал боярам приближенным. Кто на Ганзу наговаривал, кто на кесаря германского.
А теперь людишки доносят — спокойствие воцарилось в землях свейских. Будто подписал Густав мир с Речью Посполитой и готовится к новой войне, с Фердинандом Габсбургом, правителем священной германской кесарии.
А раз так, если в самом деле начнется война, придется исполнять условия договора, объявить войну Сигизмунду, королю польскому и литовскому.
Объявить войну Сигизмунду, значит вступить в открытое противостояние с Ганзой, торговля с которой давно уже является главным источником дохода царской казны. А что делать дальше, с кем торговать, если Союз объявит блокаду московских портов, будет топить торговые суда в Балтийском море? С другой стороны, договор… Французское и Английское королевства гарантом выполнения условий выступают.
Тяжелые мысли беспокоили государя всея Руси.
Федор словно предугадал то, что должно было произойти и недовольно поморщился. Так и случилось — двери опочивальни распахнулись настежь.
— День добрый, любезная сестричка, — язвительно произнес государь.
— День добрый, любезный братец, — улыбнулась в ответ Ксения. За ее спиной в проеме двери виднелись смущенные стрельцы, которым Федор строго воспретил кого-либо пускать к нему. Да разве остановишь сестру государеву? Она, как в Москве говорят, рыцаря немецкого с бронею съест за милую душу, не подавится. Любит народ Ксению Борисовну, оттого и шутит. Благо, сама царевна позволяет, сама смеется своею белозубой улыбкой.
Ксения, улыбаясь, смотрела на брата, наклонив голову, затем повернулась к стрельцам, толпившимся в дверях, сурово взглянула на них и притопнула ногой. Двери тут же закрылись и брат с сестрой остались в полном одиночестве.
— Посол свейский у меня был, сестрица, — сокрушенно произнес Федор. — Про договор о помощи говорил, напоминал, что я делать должен, если Густав кесарю германскому войну объявит.
— Известно что, — перебила государя Ксения. — Сам же, братец, договор и продлевал, помнить должен — Речь Посполитую нам необходимо удержать от помощи кесарю, свои войска на нее двинуть.
Нам обидой резануло государев слух, будто и не он царь всея Руси, а вместе с сестрой Московским государством правит.
Самой большой обидой Федора была Ксения. Жаль не умерла, пока дитем малым была. А теперь уже ничего и не поделаешь… Любит ее народ, больше государя своего любит. И случись с ней что — быстро вспомнят царевича Дмитрия, все грехи отцовские Федору припомнят. Нельзя сестру трогать, даже словом обидеть и то боязно.
Завидно царю было, завидовал воле ее — вот уж кому на самом деле мужиком родится надо было, на трон отцовский сесть — и боялся ее. Не раз Ксения уже поперек воли брата вставала, говорила, что думала, и знал Федор, что молчаливая поддержка боярская не за ним, за царевной.
И на кой черт батюшка ей столько позволял, к себе приблизил, наукам да грамоте разной обучил. А Ксения учится любила и хотела. Уж на что Федор ученым был, отец средств на образование не жалел, а не любил в споры вступать с сестрой. Проигрывать не желал.
Тем более Ксения рядом с батюшкой все время была, смотрела, как отец государством управляет, и запоминала, училась. Научилась, на беду Федору.
— И что же мне, с Ганзой теперь порвать? — искренне удивился брат. — Откуда же тогда деньги брать буду? Без торговли казна опустеет.
— Самим торговать пора, — решительно возразила Ксения. — Без Ганзы проживем, любезный братец. Немцы, сам знаешь, кому угодно глотку грызть готовы, лишь бы нам, кроме как с ними, торговать не с кем было бы. Сами в Новгороде, да в Ливонии товары задешево покупают, у себя втридорога продают. А подумаешь, если бы московские купцы сами товары бы возили за море или выбирать могли, с кем торговать, с кем нет, так тошно становится.
Федор промолчал.
— Надо свою торговлю укреплять, не от немцев зависеть. Ради чего батюшка наш Ливонию войной взял? Уж не чтоб боярам седобородым земли новые раздать, да победами прославится. Он-то понимал, как торговле русской пути новые нужны.
Упоминание об отце еще больше разозлило Федора, который сидел, мрачно уставившись в пол и разглядывая узорные плиты.
— Пусть лучше Густав кесарю войну объявит, войска в следующем году двинет, — сказал он наконец. — Там и посмотрим, нужно ли договор соблюдать. Если не сумеет свейский король немцев одолеть, выгонят его из кесарии как собаку, тогда послов в Бремен направим, что, мол, Густав не брат нам более и договор с ним мы чтить не намерены. А если победа за свеями будет, тогда и войска двигать можно, благо засиделись без достойного дела.
Ксения, ожидавшая от брата большей решительности, смотрела на него с неприязнью. Отец не раз говорил, что не все время коню по одной дороге скакать. Иногда и новый путь выбирать приходится. Эти слова накрепко запали в ее душу, не раз помогая в решении тех дел, о которых Федор даже помыслить боялся, не то что взяться за них. Только брат не всегда уступал сестре, иногда — все чаще и чаще — вспыхивал протестом, отмахивался от ее советов и поступал по своему. Может, конечно, и на благо царству московскому, да только Ксения так не считала.
А уж в таком деле сидеть и ждать, пока не определится победитель, вообще грешно. Так и проспать все на свете недолго, можно упустить свою удачу.
— Слыхала, сестрица, стрельцы того дня опять бунт учинили, хорошо боярские людишки помогли. Митрополит Кирилл речь им говорил, уважения ко мне требовал.
— А они? — Ксения не подала вида, что обрадовалась такому повороту разговора.
— А они серебра требовали. Пришлось откупиться, — Федор помолчал. — Вот, не было бы торговли с немцами, откуда серебро взял бы? То-то.
Кабы знал государь Федор Борисович о том, кто бунту настоящим зачинщиком был; знал бы если о том, что каждый вечер встречаются Ксения с митрополитом Кириллом, чтобы о политике государевой беседы вести. О том, что привозят тем боярам, которые Ксению больше других поддерживают, серебро иностранное. О том, что давно сестра его свои собственные войска собирает. Не поздоровилось бы царевне.
Но не знает государь, а потому спит спокойно.
X
Хрясть!
Медный кубок сплющился от удара о дверь. Человек, метнувший его, несколько секунд постоял, удовлетворенно смотрел на стекающее по доскам на пол темно-красное вино. Затем резко развернулся — лицо его перекосилось от злости — и ударом ноги опрокинул маленький столик в центре комнаты, уставленный бутылками с вином и пустыми тарелками.
К вину на полу добавились жир и небрежно обглоданные кости. Глиняные тарелки подпрыгнули в воздух и, звякнув, разбились, разлетевшись по доскам мелкими осколками. Грязь, покрывающая пол, стала приятного глазу желто-красно-глиняного оттенка.
— Вина! — проорал осипшим голосом человек, оглядывая утварь в поисках новых жертв. — Еще вина!
Дверь раскрылась. В проеме возник невысокий, коренастый мужчина в камзоле коричневой замши, сжимающий в руке меч. Оглядев внимательным взглядом комнату, он усмехнулся себе в бороду. При его появлении первый человек словно бы сжался, ссохся, съежился и теперь затравленно смотрел на вновь прибывшего: