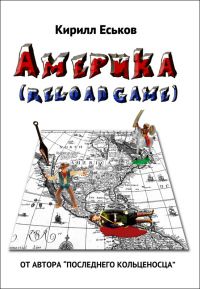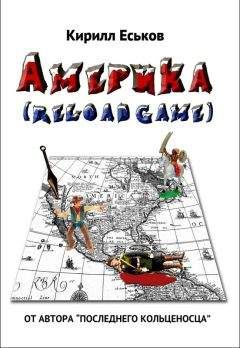Кирилл Еськов - Америkа (Reload Game)
Именно поэтому безусловное право калифорнийцев «думать, что хочешь и говорить, что думаешь» никоим образом не равнозначно здешней «свободе слова», ибо высказывание личного суждения о глупости или трусости генерала имярек никак не подразумевает права пропагандировать через «свободную прессу» воззрения о пользе скорейшей отмены армии как таковой. Равным образом, наличие в Калифорнии вполне уже развитого местного самоуправления никоим образом не побуждает его членов к мысли о необходимости избирать также и Конференцию двенадцати негоциантов путем всеобщих выборов, по схеме «один человек — один голос». Так что сомнительно, чтоб калифорнийцы «махнули не глядя» все свои нынешние блага и возможности на право сперва избирать себе начальников, а потом упражняться в злословии по их адресу — исключительно чтобы сделать приятное французским Просветителям…
Если же говорить не о том, что нас разъединяет, а о том, что объединяет, то и Конференция двенадцати негоциантов, и Континентальный конгресс, похоже, никогда и ни в каких обстоятельствах не станут использовать свой народ как расходный материал для достижения надчеловеческих, «выдуманных из головы» целей: громоздить людишек в египетские пирамиды Государственного Величия, или швырять их полешками в костер очередной Священной Войны за очередную Истинную Веру. Впрочем, и калифорнийский, и — смею полагать — американский народы просто не потерпят такого с собой обращения; благо свободное ношение оружия и там, и здесь уже не отменить. Вот за это я и предлагаю тост! — завершил свой спич Панин при явном одобрении аудитории.
Впрочем, не всей.
Позже других присоединившийся к обществу джентльмен аскетической наружности без обиняков заявил, что нарисованная здесь эмиссаром царицы Кэтрин (он верно понимает статус «наблюдателя»?..) картина калифорнийской жизни является на треть честной идеализацией, а на остальные две трети — расчетливой пропагандой. Панин, приподняв бровь, осведомился — какие личные наблюдения или факты, почерпнутые из заслуживающих доверия источников, легли в основу столь категоричного утверждения. Аскетический джентльмен фыркнул, что он, дескать, в таковых не нуждается, и что ему вполне достаточно «общих соображений», ибо изложенная графом схема общественного устройства полностью противоречит самОй «человеческой природе»: человек эгоистичен, а любовью к ближнему своему может проникнуться лишь на путях служения Господу — чего в безбожной Калифорнии быть не может по определению. Панин удивленно ответствовал, что да, действительно, религия в Калифорнии является частным делом человека, — но разве не к этому же призывают и Отцы-основатели здешнего государства? Не в этом дело, раздраженно отмахнулся аскетический джентльмен, а в том, что для формирования описанной вами Власти, которая сознательно состригает с подданных меньше шерсти, чем могла бы, потребны не люди, а ангелы — причем с обеих сторон; а где и когда люди реально заботились о чужом благополучии? — приведите хоть один пример! Вам и впрямь хватит одного? — усмехнулся Панин, которому уже изрядно поднадоела та пикировка. Да, сделайте одолжение! Пожалуйста: в постели. I beg your pardon?.. Ну, это очень просто: попробуйте как-нибудь, эксперимента ради, думать об удовольствии не только своем, но и партнерши тож — и результат вас приятно удивит!
Общий хохот собравшихся и свекольный окрас лица оппонента подсказали графу, что пущенная навскидку стрела вонзилась в самый центр мишени: джентльмен оказался известным проповедником, сделавшим себе имя как раз на бичевании «вседозволенности и распутства». Результатом стал появившийся назавтра в Филадельфии запальчиво-велеречивый памфлет, в коем граф аттестовался как «достойный прислужник распутной царицы Кэтрин — Блудницы Вавилонской, укравшей титул Северной Семирамиды, — от блудодейств коей могли бы вспыхнуть со стыда даже невские болота». Государыню сия аттестация изрядно рассмешила; она поделилась ею с Вольтером в очередной своей эпистоле, а тот, в свой черед, вложил ее в уста религиозного ханжи из новой своей пиэсы — нечаянно обессмертив, таким образом, первоисточник…
Важнее, однако, иное: внимательно ознакомившись, по случаю, с популярно изложенными Паниным взглядами Компании на Американскую революцию, государыня в задумчивости поиграла пером над текстом и… не наложила никакой резолюции. Сиречь — решила оставить всё как было.
8
Наставшая вслед за «Бабьим веком» эпоха «Павла и Палычей» породила опасный конфликт интересов: внешнеполитические устремления Колонии (становившейся мало-помалу серьезным игроком на Пацифике) и Метрополии объективно оказались строго противоположными. Собственно, спасало Калифорнию на протяжении всего того времени лишь крайне своеобразное понимание Петербургом своих обязанностей перед собственными подданными…
Как это ни смешно, но за всю эпоху Наполеоновских войн лишь недолговечный затейник Павел вел самую настоящую Realpolitik, отвечающую национальным интересам страны — а не идеологическим фантомам или своекорыстию ее «элиты». Дождавшись, чтоб Франция очнулась от своего революционно-гильотинного умопомешательства, он тут же стал наводить мосты с Первым консулом, твердо следуя фундаментальному правилу международной политики — «дружить через голову»; в данном случае — через голову Коалиции. Ясно, что замаячивший в дыму европейского пожара призрак русско-французского стратегического альянса перепугал до смерти Берлин с Веной (собственно, Наполеоновские войны могли на этом месте закончиться всеобщим миром) и вызвал дикую ярость Лондона. Но если для Петербурга, практически не ведущего собственной морской торговли, наведывающиеся временами в Балтику британские эскадры особой угрозы не представляли, то для Петрограда противостояние России с Владычицей морей в любом варианте ничего хорошего не сулило.
Так что когда петербургский представитель Компании Сергей Евграфов получил, через свою превосходно налаженную агентуру, сведенья о заговоре против Павла, он оказался перед весьма нелегким выбором. С одной стороны, международная политика Императора была очевидно губительной для Колонии, так что отстранение его от власти следовало всячески приветствовать; с другой стороны, Император, как-никак, был для них еще и компаньеро, — а своих Компания не сдавала, никому и никогда… Но пока Евграфов ломал голову над этой дилеммой, заговорщики, вхожие в ближайшее окружение Павла, сделали сильный ход: граф Пален, военный губернатор столицы, известил самодержца о раскрытии им «аглицким золотом унавоженного заговора Компанейских», подкрепив свой навет кой-какими уликами, любезно сфабрикованными по его просьбе британским послом. Евграфов с некоторым даже облегчением рассудил, что заглотнувший ту наживку Император сам выбрал свою судьбу, и, вверив себя Господу, отправился ожидать казни в Алексеевский равелин Петропавловки — где его и догнало известие о скоропостижной кончине Павла вследствие «апоплексического удара табакеркой».
Возведенный на липкий от отцовской крови престол Александр Павлович посулил, как известно, подельникам: «При мне всё будет, как при бабушке» — и всех в итоге надул. Точнее — всех, кроме Компании (которой как раз ничего обещано и не было): тут отношения воистину вернулись к екатерининским временам, а в чем-то даже и к елизаветинским, с тогдашней политикой «Отпусти народ мой». Дабы восстановить status quo и загладить несомненную вину Петербурга перед Петроградом с его спешно освобожденным из камеры смертников посланником, Александр, в виде своеобразной компенсации, санкционировал «Третий исход» — организованную эмиграцию в Америку почти семидесяти тысяч старообрядцев, молокан и иных сектантов (что, впрочем, полностью отвечало его собственным устремлениям по части религиозного очищения Империи); вернувшийся к исполнению своих обязанностей Евграфов получил из рук государя орден Святой Анны, на чем высокие договаривающиеся стороны сочли инцидент исчерпанным.
Государь тем временем со всем пылом молодости примкнул к Holy War Коалиции европейских монархов против Evil Empire богопротивного узурпатора Буонапарте. Сам Евграфов был стопроцентно согласен с мнением прослывшего на том франкофилом канцлера Румянцева, что России-де в той совершенно ее не касающейся войне предстоит просто-напросто «дотировать русской кровью британские ввозные пошлины на апельсины» — однако эгоистическим интересам Колонии именно такой стратегический расклад отвечал наилучшим образом…
С отстраненным любопытством наблюдал Представитель за тем, как Император разоряет, в угоду английским конкурентам, отечественную торговлю и промышленность троекратным ростом налогов для содержания гигантских, ни с чем не сообразных вооруженных сил, раз за разом задирает вовсе не желающую войны с ним великую державу (имеющую первую сухопутную армию и вторую экономику мира) — и успешно доводит-таки дело до французского вторжения. Из многих тогдашних Александровых затей более всего поразили Евграфова военные поселения (причем не столько даже сама идея регламентировать «под барабан» распорядок сельхозработ и показатели деторождения у поселянок, сколько ответ Самодержца на вполне резонные возражения специалистов, в том числе и Аракчеева: «Военные поселения будут устроены, хотя бы пришлось уложить трупами всю дорогу от Петербурга до Чудова!») и примененная тем в собственной стране тактика «выжженной земли» (главным результатом которой стала массовая гибель оставленных — на зиму глядя — без крова, пищи и всякого намека на помощь русских крестьян из сожженных при отступлении русской же армией деревень). Да и вообще, брошенные Россией в топку абсолютно ей не нужных Наполеоновских войн 440 тысяч солдатских жизней и 470 миллионов серебряных рублей (что соответствовало рыночной стоимости примерно пяти миллионов крепостных душ — при населении страны в сорок миллионов…) представлялись калифорнийцу явно несообразной платой за Державное Величие (сиречь за право cosaques de Russie продефилировать по Елисейским полям, а tsar de Russie — покрасоваться в президиуме Венского конгресса и Священного Союза); ну а если русские, как он убедился из разговоров, в массе своей находят такую цену вполне приемлемой, и с радостью готовы платить ее снова и снова — что ж, нам тогда лучше и впредь оставаться русскоязычными…