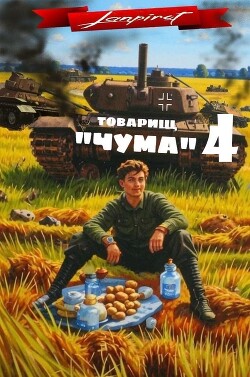Товарищ "Чума" 5 (СИ) - "lanpirot"
— Я же говорила…
— Он твой, ведьма, — резко произнёс я, отвернувшись от окна. — Только я возьму с тебя магическую клятву, что никто больше не увидит его живым.
— С радостью! — Фрау Аденауэр, сверкнув своими ровными и белыми зубами, протянула мне руку.
И я её пожал. Вот только такой реакция от ведьмы я, признаюсь, не ожидал. Едва только наши ладони соприкоснулись, её лицо удивлённо вытянулось, а расширившиеся от благоговейного ужаса глаза едва не вылезли на лоб.
— Простите, Господин, что я вас сразу не узнала… — дрожащим голосом произнесла она, становясь передо мной на колени.
Господин? Вот это номер! За кого же она меня принимает?
[1] Жак Луи́ Дави́д (фр. Jacques-Louis David; 1748–1825) — французский живописец и рисовальщик, центральный представитель неоклассицистической школы рубежа XVIII—XIX веков, педагог и политический деятель.
[2] Франси́ско Хосе́ де Го́йя-и-Лусье́нтес (исп. Francisco José de Goya y Lucientes; 1746–1828) — испанский живописец и график, один из первых и наиболее ярких художников эпохи романтизма.
[3] «Когда гремит оружие, законы молчат», или по-латыни «Inter arma silent leges» — цитата из речи Марка Туллия Цицерона, позднее перефразирована в более известное крылатое выражение «Inter arma silent Musae» — «Когда говорят пушки, музы молчат».
[4] Мише́ль де Нотрда́м (фр. Michel de Notredame), известный также как Нострада́мус (фр. Nostradamus) — французский врач-фармацевт, писатель, поэт, астролог и алхимик, знаменитый своими пророчествами.
[5] Эмпатия — это способность почувствовать и понять эмоции других людей. Эмпатичная личность может поставить себя на место другого человека и понять то, что он ощущает: грусть, радость, печаль, боль.
Глава 6
Я не без удивления поглядел на униженно склоненную передо мной голову ведьмы, и до меня постепенно начало доходить, кого она могла назвать Господином. Да, именно так, с большой буквы, да еще и с придыханием в голосе. Ведь явно она упала на колени не перед собратом по ведьмовскому ремеслу — товарищем Чумой, а перед тем, который во мне сидит — первым всадником Чумой.
Ну, вот скажите на милость, как они меня вычисляют? И Лихорук, и леший? Ладно — они — нечисть, может у них инстинкт какой на всадника «стойку» делает? Но и мать Глафиры тоже узнала… Правда, после собственной смерти, а на «той стороне» условия для распознавания совершенно иные. Но эта-то трехсотлетняя бабка не сдохла ведь еще! И она туда же…
— Поднимись! — произнес я.
Руки мы так и не разжали, и я легонько потянул Глорию на себя, вынуждая подняться с колен.
— Простите, Господин, — продолжала лепетать фрау Аденауэр, не поднимая на меня глаз, — но если бы я знала, что это Вы, я бы никогда не решилась ставить Вам условия…
— А ну-ка прекрати причитать! — сурово прикрикнул я, когда ведьма поднялась на ноги. — И в глаза мне смотри!
Отпустив мою руку, она боязливо подняла голову, встретившись со мной взглядом. А в её глазах плескался самый настоящий ужас. Да и не только в глазах — вся её аура трепетала от страха, буквально сочась его фиолетовыми оттенками.
— Откуда ты меня знаешь, ведьма? — медленно, едва ли не по слогам произнес я, чтобы до неё лучше дошло. Ведь из-за окутывающей Глорию жути, она буквально теряла голову. — И кто я, по-твоему?
— Белый всадник, Господин… Первый из равных… Предвестник грядущего Апокалипсиса… — Зачастила она, временами останавливаясь и хватая воздух ртом, как будто его ей не хватало. — Чума, ниспосланный на наши грешные головы… Венценосный Раздор… Завоеватель царств…
— Стоп! Хватит! — прервал я словоизлияния ведьмы.
Похоже, что она весьма поднаторела в перечислении титулов «того, кто во мне», но еще не осознавший себя. Пусть оно и дальше так продолжается, я не против. И если встречные ведьмаки и ведьмы будут на меня подобным образом реагировать — мне же проще. Вот иду я такой красивый по улице, а все встречные ведьмы так и столбенеют. А которые послабее — так и падают, падают, падают! И сами собой в штабеля укладываются! Вот, вдруг вспомнилось чего-то…
— Вижу, что узнала, — продолжил я. — Но я тебя не помню… Где мы с тобой встречались, ведьма?
— Вы спасли меня, Господин, во время Марсельской чумы[1], — произнесла Глория, принимаясь зачем-то поспешно расстегивать пуговицы на мундире.
Это чего она удумала? Неужели таким вот Макаром хочет высказать своё «почтение и уважение» перед глашатаем Армагеддона? Так мне такого «счастья» и даром не нать, и с деньгами не нать — видел я, как она в реальности выглядит. И эта картинка до сих пор стоит у меня перед глазами. И пусть она сейчас дама в самом соку… Бррр… К тому же у меня есть Глаша, которой я не собирался изменять…
Однако, что-то не давало мне заставить фрау Аденауэр остановиться. Какое смутное чувство, что, возможно, сейчас мне приоткроется часть истории, касающейся личности перового всадника. К тому же я почувствовал какую-то родственную связь, идущую ко мне от ведьмы. Словно пробудилось нечто давно забытое и спящее до поры, до времени. И это время пришло…
Пока Глория дергала ставшими вдруг непослушными пальцами тугие пуговицы мундира, я попробовал вспомнить, что я знаю об эпидемии Марсельской чумы. Кроме того, что о ней только что рассказала мне ведьма, и названия французского города Марсель — ничего больше не всплыло в моей памяти.
Фрау Аденаур, так и не сумев справиться со всеми пуговицами, резко дернула за борта мундира, вырывая с мясом упрямые застежки. Распахнув форму и задрав рубашку, она продемонстрировала мне крепкое сочное тело и крупную упругую грудь.
Эта «личина» весьма разительно отличалась от облика уродливой сморщенной старухи, но меня привлекло совершенно не это. На левой груди, где-то в районе сердца, пылал изумрудом отпечаток чьей-то ладони. Человеческой. И, судя по размеру, явно мужской.
Не обращая внимания на женские прелести, весьма нескромных размеров, я протянул руку, раскрыл ладонь и решительно положил её на светящийся отпечаток. Поначалу ничего не произошло, я ощутил лишь мягкость и бархатистость кожи Глории и упругую плоть её ненатуральной груди.
Хотя, за такую ненатуральность многие женщины легко бы продали бы душу дьяволу. А вот затем… Затем меня так жахнуло, что в глазах реально помутилось, и я на какое-то время совершенно «потерялся».
Я шёл по мощеной камнем узенькой улочке какого-то городка позднего средневековья. Легкий утренний бриз доносил до меня знакомые «солёные» запахи моря, йода и гниющих водорослей. Солнце еще только-только всходило над горизонтом, не успев разогнать приятную ночную прохладу, но дышать было тяжело — жирный черный дым застилал безбрежно голубое небо, на котором не наблюдалось ни облачка.
Дым стелился и по земле, забивал рот и нос едкой вонью, но всё равно не мог затмить сладковатый смрад разлагающихся мертвых тел, которые никто не удосужился убрать с улицы даже с наступлением утра. За прошедшую ночь мертвецов прибавилось, но убирать их было некому.
В Марселе (наконец-то всплыло в моей голове название этого французского города у моря) безраздельно царила бубонная чума. И я был уверен, что послужил одной из причин этого смертельного кошмара. Именно с моим появлением здесь и расползлась по округе эта зараза, уже уничтожившая десятки тысяч смертных.
Мне было горько наблюдать за их страданиями, но поступить иначе я просто не мог. Я — лишь карающий меч, ниспосланный людям за их грехи. Возможно, мой приход остановит назревающую катастрофу куда более мощных масштабов. Недаром я прихожу первым.
Но, если люди не внемлют и этому предупреждению, следом за мной приходит Война. Его приход куда более трагичен и кровав, а жертвы исчисляются уже сотнями тысяч. И я предвижу тот день, когда они будут исчисляться миллионами. Но даже с появлением носителей третьей и четвертой печатей «Книги божественной тайны о последних временах» — Голода и Смерти, этот мир еще имеет шанс… Но не мне об этом судить — у меня другая задача.