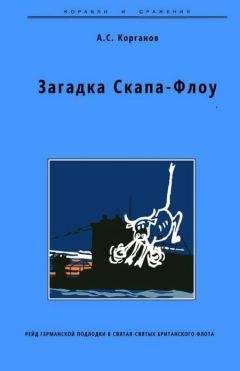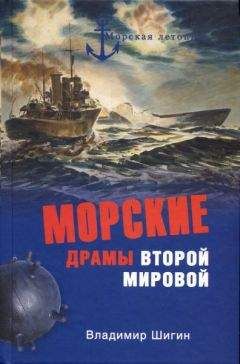Анат Гарари - Рождение бабушки. Когда дочка становится мамой
– Правда, – спешит вставить слово Анна, – я помню, как несколько недель назад вы сказали, что чувствуете себя виноватой в том, что этому ребенку придется расплачиваться за те решения, которые вы принимали. По-вашему, в жизни, как в Библии, дети платят за поступки их родителей?
– Да, и никто не выбирает, в какой семье родиться, – отвечает Това, при этом глядя на Эллу.
– А вы могли бы подумать, что бы хотели передать этому малышу? – не отступает Нири.
Това задумчиво смотрит на Нири и, наконец, произносит:
– Разум. Вот я говорю это и уже сама себя критикую, какое холодное, недушевное качество я выбрала. Ничего не поделаешь, такой я человек. У меня очень умная семья, все очень способные; у нас за столом всегда необыкновенно интересные беседы, и я этим очень горжусь.
Она останавливается и глубоко вздыхает.
– Вот я еще не успела закончить предложение, а уже подумала, а что будет, если этот ребенок не будет умным? Как я тогда буду себя чувствовать? – добавляет она, нервно передвигая стул.
– Вы все время себя контролируете, – резко замечает Рут, – оставьте себя хоть немного в покое! Уж думать-то вы имеете право все, что угодно!
– Думать – это одно, – вздыхает Това, – самое главное, что с этим делать потом. Проблема, что эти мысли меня не отпускают; я все время чем-то озабочена, что-то проверяю, взвешиваю, как будто смотрю на все со стороны, на расстоянии, чтобы было лучше видно.
Она замолкает и опускает голову.
– Ребенок будет, конечно, самим собой, – взволнованно обращается к Тове Клодин, – таким, каким он родился; и вы узнаете его поближе, и обязательно у него будут стороны, которые будут вам нравиться, и стороны, которые будут нравиться меньше. С божьей помощью вы примете его таким, каков он есть, и будете любить его, вот увидите! Я в этом ничуточки не сомневаюсь!
К ней присоединяется Маргалит:
– Не стоит грызть себя из-за каких-то мыслей, – по-матерински назидательным тоном говорит она, – у всех у нас, Това, есть мысли, которые не дают нам покоя, и очень важно не держать их в себе, а высказать их вслух. Так что незачем себя винить: вы далеко не одиноки!
Това смотрит на них с благодарностью и, глубоко вздохнув, произносит:
– Я знаю, что вы правы, но ничего не могу с собой поделать, а самое обидное, что это влияет на всех тех, кто находится рядом со мной.
В комнате опять устанавливается тишина, но на этот раз, похоже, она не такая тяжелая.
Клодин, наклонившись, оттирает пятно, проступившее на светло-коричневой туфле, нарушая тишину веселым позвякиванием браслетов. Еще не подняв головы, она точно знает, что взгляды всех обращены в ее сторону.
– Что? – смеется она, выпрямляясь и поудобнее устраиваясь на стуле.
– Мне кажется, что вы хотите что-то сказать, – отвечает за всех Маргалит.
– Если честно, – соглашается Клодин, – я бы хотела кое о чем спросить у Орны.
– Пожалуйста! Спрашивайте, о чем угодно! – повернувшись в ее сторону, с нотками любопытства в голосе откликается Орна.
– Знаете, – начинает Клодин, – когда вы говорили о продолжении рода, я подумала, что, может, вы поэтому и уговорили вашу дочку не делать аборт, что испугались, вдруг у вашей семьи не будет продолжения. Вы несколько раз повторяли, как для вас это важно.
Орна задумалась, глядя на Клодин.
– Я, и правда, тяжело потрудилась, – наконец, говорит она, – пока окончательно отговорила ее от аборта, но в тоже время я сама была… как бы это сказать… словно на распутье… или, точнее, в конфликте сама с собой! С одной стороны, я считала, что надо сделать аборт, потому что ясно представляла, что ждет нас впереди, как нам будет тяжко; и, действительно, беременность была очень тяжелой! И вдобавок к этому, у нее еще было ужасное настроение. Всю ее беременность я тащила на своих плечах! А с другой стороны, я безумно боялась аборта при первой беременности. У меня тоже был аборт, но уже после двух детей. Первый аборт – это страшно, а вдруг потом она не сможет рожать?! Короче, Клодин, вы, наверное, правы: мне было страшно: а вдруг она избавится от этого ребенка и в результате останется вообще без детей? Для меня действительно очень важно все, что связано с семьей и ее продолжением. Пока у тебя есть семья, ты всегда найдешь, с кем и для кого жить! Неожиданно она поднимает с пола сумку и достает ручку и листок какой-то рекламки. Перевернув его белой стороной вверх, она начинает рисовать.
– Не знаю, почему, – не отрывая глаз от бумаги, поясняет она, – но я вдруг вспомнила два рисунка, которыми еще в школе, не замечая, часто разрисовывала тетрадки и блокноты. Я прямо вижу их перед глазами. Вот, поглядите… На одном – два дерева…
Она продолжает рисовать.
– Шишки. Вы видите корни? Еще одно дерево, естественно, с корнями, очень ветвистое. Видите, ветви во все стороны, а на них – яблоки. Да, два дерева, но одно широкое, распахнутое, а другое – строгое, как пирамида, ветки почти прижаты к стволу. А теперь – еще один рисунок, который я вечно чиркаю: дом… дверь и дорожка. Вот и все…
Орна поднимает рекламку, чтобы всем было видно, и продолжает рассуждать вслух:
– Я смотрю на эти рисунки и вижу себя: я могу быть и скрытной, и открытой, как эти деревья, как дом. Плоды – это мои плоды – мои дети, внуки, которые есть и будут. Дом – это моя семья, что-то устойчивое, постоянное, надежно стоящее на земле. Это мне понятно. Но вот дорожка… Всегда я рисую дорожку и не могу понять почему. Почему я рисую ее именно такой, длинной, на весь лист? В чем смысл дома, я понимаю: мне нужен дом, уютный, чистый, как я люблю. Но что кроется за этой дорожкой?
– Чтобы вы всегда могли и войти, и выйти, – предлагает Клодин.
– Может, правда, – задумчиво откликается Орна, – эта тропинка ведет как в дом, так и из дома: можно войти, а можно – выйти.
– Почему вам так важно сознание, что вы всегда можете и войти, и выйти? – обращается к ней Нири.
– Я думаю, – Орна опять внимательно рассматривает рисунок, – чтобы не потерять ощущения свободы; чтобы я всегда могла выйти, когда вдруг мне не хватает воздуха. Возможно, чтобы все могли выйти, если им это будет необходимо.
Она берет еще один лист и опять начинает рисовать.
– Лицо, – не прерываясь, комментирует она, – вы знаете, как я рисую лица? Обязательно – серьги, бусы; всегда яркие, накрашенные губы и ресницы. Пышные волосы; естественно, шея.
Орна заканчивает свой рисунок и опять приподнимает его для лучшего обозрения. Группа молча ждет продолжения.
– Что мы можем узнать о вас из этих рисунков? – спрашивает Нири.
– Я никогда не задумывалась над этим, – говорит Орна, поправляя очки, – хотя годами рисую одно и то же! По-моему, по ним видно, что я человек прямой, открытый; хотя, с другой стороны, я иногда кое-что недоговариваю, поэтому на лицах есть косметика и украшения, которые обычно что-то прикрывают. Так и я должна быть всегда представительной, аккуратной, или, скорее, педантичной; говорить только то, что другим приятно; и, если честно, меня это начало утомлять!
Она обводит взглядом группу и грустно добавляет:
– В последнее время у меня такое чувство, что я слишком часто кривлю душой даже перед самой собой, будто существует какая-то маска, отделяющая меня от внешнего мира.
Наступившую тишину нарушает голос Рут:
– Может, вы поэтому боитесь остаться без воздуха? В маске можно задохнуться! Это ведь касается и того, что вы рассказывали про аборт, не так ли? Когда вы думали одно, а говорили дочке совсем другое. Или, как вы рассказывали нам на прошлой неделе, когда вы еще не чувствовали себя созревшей стать бабушкой, да и вообще хотели быть совсем другой – бабушкой, которая балует, а не растит и воспитывает, но при этом настояли, чтобы она сохранила ребенка. Вы до сих пор еще не совсем смирились с навязанной вам действительностью.
– Я думаю, вы правы, – соглашается с ней Орна, – скорее всего, одно связано с другим, тем более, что я бы хотела, чтобы многое сложилось иначе!
Она тяжело вздыхает и добавляет:
– Но я принимаю все, как есть, у меня нет выбора! Хотя глубоко внутри, я здорово боюсь, как все будет, когда она вернется из больницы. И ко мне опять вернулась неуверенность, которую я испытывала все месяцы ее беременности; ведь я чувствовала, что еще не готова стать бабушкой, а ей говорила, что давно уже жду не дождусь, когда она меня осчастливит.
Орна замолкает, но затем, махнув рукой, решительно объявляет:
– Все, хватит! От правды не убежишь! Да и малышка просто прелесть! Посмотрим, как это все будет. Яэль возвращается из больницы и берет академический отпуск, а я буду ей помогать. Они живут рядом с нами. Я надеюсь, все устроится. Слава богу, что все закончилось благополучно!
– Когда Орна говорит о маске, отделяющей ее от окружающего мира, – обращается к группе Нири, – у меня такое ощущение, что и наша группа предпочитает сегодня оставаться в маске. И конечно, тут же возникает вопрос: а что же за ней прячется; какие чувства и мысли остались сегодня невысказанными?