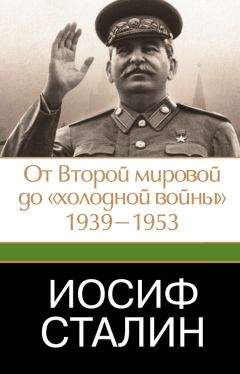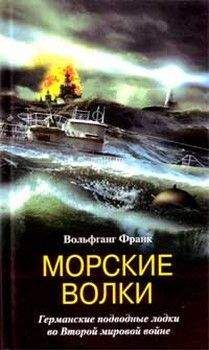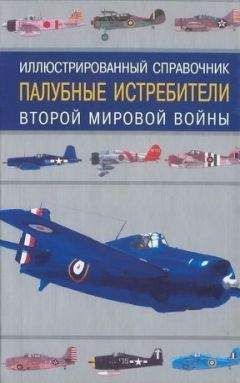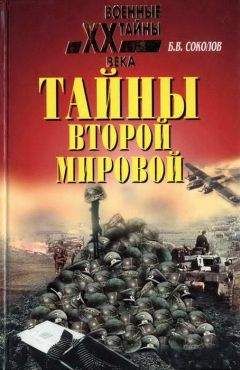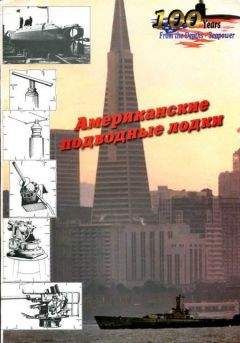Происхождение Второй мировой войны - Тышецкий Игорь Тимофеевич
Особняком стояли коммунисты. Их представителей не было в Учредительном Национальном собрании, и выразить свою позицию КПГ могла лишь уличными акциями протеста. После поражений зимне-весенних вооруженных выступлений КПГ их новый лидер Пауль Леви опасался очередной неудачи, которая могла стать губительной для партии. Немецким коммунистам, конечно же, не нравился Версальский мир, но их руководство призывало выжидать. «Перед пролетариатом не стоит задача взять власть в свои руки и таким образом перехватить у буржуазии опасную ответственность за мирный договор, — говорил Леви в воззвании к партии 11 июня. — В нынешней ситуации необходимо безусловно избегать любых действий, которые могли бы рассматриваться как борьба за власть». А через неделю, опасаясь призывов радикальных элементов в партии, Леви уже категорично призывал: «Сейчас не время пролетариату вступать в борьбу... Остановитесь! Не дайте втянуть себя в провокацию!»12 Руководители КПГ хорошо понимали принципиальное различие ситуации в Германии от той, что была в России полутора годами ранее. Большевики сначала захватили власть, а затем, чтобы ее удержать, предложили враждебной коалиции мир. Германским коммунистам в случае захвата власти предстояло бы нести ответственность за мир, уже продиктованный Германии. Леви, который был сторонником парламентских форм борьбы, понимал, что силой противостоять навязываемым Германии условиям мира невозможно, и любое открытое неповиновение может привести лишь к установлению диктатуры в Германии, что значительно осложнило бы жизнь левым силам.
Как всегда, неоднозначную позицию заняли германские военные. Самый знаменитый и влиятельный из них, Пауль фон Гинденбург, признавал, что у Германии нет сил противостоять версальским условиям мира, но демагогично заявлял о том, что лучше погибнуть, чем подчиниться диктату. Для германской армии Гинденбург оставался знаменем. Его репутацию надо было сохранять для будущего возрождения страны. В мае-июне 1919 года эту неблагодарную миссию взял на себя генерал Вильгельм фон Грёнер, сменивший в последний месяц войны Людендорфа на посту обер-квартирмейстера Генерального штаба. Грёнер убеждал патриотически настроенных офицеров, что сопротивление Антанте бессмысленно, и советовал гражданским политикам подписать договор, несмотря на его унизительный характер. Впоследствии он объяснял свою позицию именно стремлением сохранить репутацию Гинденбурга ценой собственной 13. Далеко не все германские генералы разделяли здравые мысли Грёнера. Генерал Георг фон Маркер, отвечавший за безопасность правительства и вновь избранного Национального собрания, открыто заявлял депутатам, что его люди не станут защищать политиков, подписавших и одобривших позорный договор, и не смогут далее гарантировать соблюдение законности и порядка 14.
Безусловно, многое из того, что говорилось в Германии в те дни, было продиктовано переполнявшими немцев чувствами отчаяния и негодования. Но события мая-июля 1919 года стали родовым пятном Веймарской республики. Они сформировали тот эмоциональный фон, который сопутствовал ей в течение всех лет существования. На все последующие события в Германии стало принято смотреть сквозь призму Версальского договора. Если сразу после его подписания кто-то из Союзников еще тешил себя надеждой, что немцы хотя бы внешне смирятся с Версалем, как французы смирились в свое время с Ватерлоо, а позже — с потерей Эльзаса и Лотарингии, то жизнь опровергла эти ожидания. Вплоть до Лондонской конференции 1924 года и локарнских договоренностей противодействие «версальскому диктату», как стало принято обозначать условия мира в Германии, не только не прекращалось, но шло по нарастающей. В значительной степени это было вызвано нерешенностью одной из главных проблем послевоенного урегулирования — репарационной, и «споры вокруг нее постоянно ставили под вопрос все остальные положения договора» 15. Но даже после решения вопроса с репарациями и возвращения Германии в мировую политику противодействие Версальскому договору не прекратилось. Только теперь оно стало пассивно-выжидательным, а его главной целью сделалось возвращение утраченных германских земель на Востоке. Собственно говоря, немцы и не думали скрывать это. Официальные германские представители честно признавались английскому послу в Берлине, что существование польского (данцигского) коридора «невыносимо» для Германии, а французскому послу столь же откровенно объясняли, что «ни одно германское правительство не подпишет документ, обязывающий нас считать данцигский коридор постоянным решением» 16. Потеря земель на Востоке была особенно чувствительна для немцев еще и потому, что никто не видел иных путей их возврата, кроме как силой. «Попытка насильно превратить немцев в поляков, а из части Германии сделать Польшу, — говорила англичанам либеральный депутат рейхстага и хозяйка популярного политического салона Катарина фон Охаймб, — приведет к тому, что вы не сможете бороться с возрождением милитаризма иначе, как добившись бесплодия всех германских женщин» 17.
В политической жизни Веймарской республики участвовали около тридцати политических партий. Конечно, далеко не все из них играли заметную роль, но вопросы противодействия «версальскому диктату» в той или иной степени присутствовали в программах или задачах всех германских партий. Различия заключались, главным образом, в том, какую борьбу против «диктата» они выбирали — активную или пассивную. Если радикальные партии — коммунисты и нацисты — предпочитали решительные действия и заявляли, что в случае прихода к власти односторонне выйдут из версальских договоренностей, то социал-демократы, многочисленные центристские и некоторые правые партии ставили задачу добиться изменения версальских условий путем переговоров и убеждений. Что касается коммунистов и нацистов, то между ними в Веймарской республике было много общего. Настолько, что один из лидеров нацистов, шеф их партийной пропаганды Йозеф Геббельс писал в открытом письме руководителям компартии: «Между нами идет борьба, но ведь мы, в сущности, не враги». А в дневниковой записи от 1 января 1926 года он с сожалением отметил: «По-моему, ужасно, что мы (нацисты) и коммунисты колотим друг друга... Где и когда мы сойдемся с руководителями коммунистов?»18 Конечно, ставить знак равенства между коммунистами и нацистами было бы неверно. Уже хотя бы потому, что первые объявляли себя интернационалистами, а вторым не было дела до пролетариата других стран. Но обе партии частично действовали среди одной и той же группы избирателей, а методы борьбы, выражавшиеся в совмещении парламентских способов с путчами и восстаниями, до середины 20-х годов у них были схожими. Однако союз между коммунистами и нацистами был маловероятен, а Геббельса, очевидно, смущало то, что в программе и идеологии нацистов наблюдался своеобразный «симбиоз ультраправых и ультралевых идей и наклонностей» 19.
Так или иначе, но до Локарнских соглашений коммунисты и нацисты считали вполне возможным насильственный захват власти в Германии. Последние такие попытки произошли у них почти синхронно, осенью 1923 года. В конце октября коммунисты во главе с Эрнстом Тельманом подняли мятеж в Гамбурге, а спустя две недели Гитлер организовал в Мюнхене нацистский «пивной путч». Обе попытки захвата власти закончились неудачно, и обе партии были временно запрещены в Германии. В дальнейшем, после стабилизации положения в стране, и коммунисты и нацисты стали отдавать предпочтение законным, парламентским формам борьбы, хотя на всякий случай держали наготове многочисленные вооруженные отряды боевиков (красногвардейцев и коричневорубашечников). Что интересно, в составе тех и других было много криминализированных элементов, включая их руководителей, которые при случае могли перетекать из одного лагеря в другой 20. Впрочем, поначалу какие-то шансы добиться успеха выборным путем были только у коммунистов. За них был и успех большевиков в России, и финансирование, которое регулярно поступало из Москвы, несмотря на ряд идеологических и политических разногласий. (Роза Люксембург, например, резко критиковала Ленина и большевиков по многим вопросам, от Брестского мира до разгона Учредительного собрания и создания Коминтерна.) Коммунисты, как сказали бы сегодня, были хорошо раскрученным брендом, пользовавшимся, если и не поддержкой, то известностью по всей Германии. Нацисты же до середины 1920-х годов оставались баварской партией, и за пределами этой земли были мало кому знакомы.