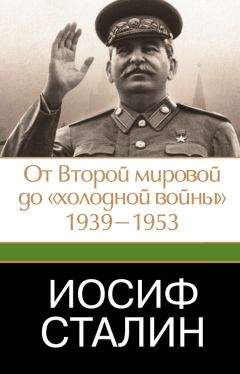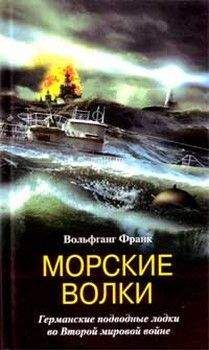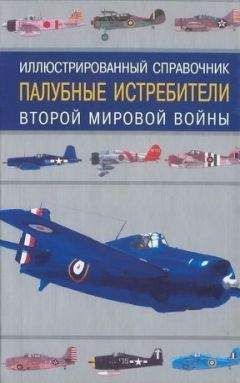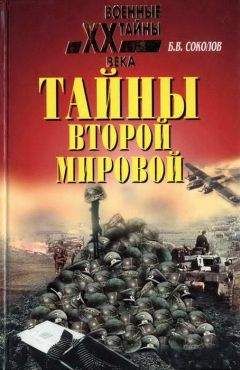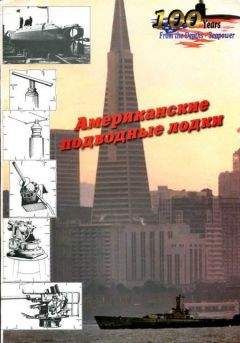Происхождение Второй мировой войны - Тышецкий Игорь Тимофеевич
В начале 1923 года в КПГ насчитывалось 218 555 членов. Партия имела 97 представителей в ландтагах различных земель и 13 депутатов в рейхстаге 21. У коммунистов были неплохие позиции в профсоюзах, молодежных, женских и многих других объединениях. Но КПГ никогда не была однородной партией. В ней всегда существовали различные течения, и в первые годы своего существования партия не раз раскалывалась, да и в дальнейшем периодически балансировала на грани раскола. Были «правые», лидерами которых считались Генрих Брандлер и Август Тальгеймер. Их недолгое руководство закончилось исключением из КПГ. Им на смену в середине 1920-х годов пришли «левые» во главе с Рут Фишер и Аркадием Масловым. Но и их постигла та же участь. Впрочем, принадлежность к «правым» или «левым», как и сами эти течения, были во многом условны, и зависели, не в последнюю очередь, от событий и борьбы большевистских лидеров в Москве. Лидер Коминтерна, пустой и тщеславный Григорий Зиновьев боролся с остроумным циником Карлом Радеком, который в первой половине 1920-х годов являлся членом Исполкома Коминтерна и фактически курировал из Москвы германских коммунистов. Свои «мнения» эти два большевистских деятеля меняли в зависимости от конъюнктуры момента, иногда на прямо противоположные. Соответственно, «колебались» и связанные с ними немецкие коммунисты. Наконец, в 1925 году в руководстве германской компартии закрепилась группа, возглавляемая Эрнстом Тельманом, который благоразумно сделал ставку на восходившую звезду мирового коммунистического и рабочего движения Иосифа Сталина. После этого внутри КПГ произошла относительная стабилизация, сохранявшаяся вплоть до запрещения компартии с приходом нацистов к власти.
Однако сводить ожесточенную внутрипартийную борьбу в КПГ в первой половине 1920-х годов исключительно к межличностным отношениям было бы неправильно. Кроме малопонятных для непосвященных схоластических споров о разных «теоретических» выкладках, борьба в КПГ велась и вокруг ряда принципиальных и вполне конкретных вопросов политической стратегии партии. Прежде всего, о возможности насильственного захвата власти. Этот вопрос был актуален для немецких коммунистов где-то до 1924 года. Коммунисты организовывали вооруженные выступления в январе и в марте 1919, в марте 1921 и в октябре 1923 годов. Политика КПГ всегда направлялась из Москвы, особенно после образования Коминтерна. Основатели германской компартии Карл Либкнехт и Роза Люксембург, авторитет которых в мировом коммунистическом и рабочем движении был ничуть не ниже авторитета Ленина, погибли буквально сразу вслед за образованием КПГ. После их смерти любые действия надо было согласовывать с московскими товарищами. Это приводило к банальному забюрокрачиванию «революционного процесса». Вместо того чтобы действовать, надо было ждать одобрения и инструкций из Москвы, где Зиновьев говорил одно, а Радек — другое. Иногда немецкие коммунисты огрызались. «У нас нет хозяев и наставников, — заявлял Брандлер, ориентировавшийся на Радека — и поэтому мы никак не связаны с личными взглядами товарища Зиновьева» 22. Однако подобное неповиновение строго усмирялось, и желающих его повторять было немного. В результате вооруженные выступления германских коммунистов оказывались плохо подготовленными и быстро подавлялись правительственными силами.
Самым ярким примером провала КПГ стала реакция партии на франкобельгийскую оккупацию Рура. Казалось, не могло быть более серьезного повода для вооруженного выступления. Тем более что оккупация началась в дни работы VIII съезда партии. Ввод войск Антанты всколыхнул всю Германию, и было естественным ожидать, что коммунисты воспользуются протестными настроениями. Но пока они дискутировали и согласовывали вопрос о том, как им относиться к событиям в Руре, протестную инициативу успешно взяло в свои руки правительство, организовавшее массовое «пассивное сопротивление». КПГ же ограничилась красиво звучавшим, но малопонятным руководством Клары Цеткин: «Мы должны нанести поражение Пуанкаре в Руре. Но это возможно, лишь нанеся поражение Куно (канцлер Германии. — И. Т.) на Шпрее. А Куно можно победить на Шпрее, если немецкие рабочие победят Пуанкаре в Руре» 23. На практике это приводило к крупным просчетам. Когда, например, 31 марта тысячи рабочих Круппа в Эссене попытались помешать французским войскам конфисковать заводские грузовики, подвозившие рабочим продукты питания, оккупанты открыли огонь. Было много убитых и раненых. КПГ, руководствуясь директивой Клары Цеткин, не придумала ничего лучше, как возложить вину за произошедшее поровну на «французских милитаристов» и «германских провокаторов-националистов», а рабочим посоветовала остыть и «не поддаваться на фашистские провокации» 24. Естественно, такая позиция не добавила КПГ популярности среди рабочих. Получался замкнутый круг, выход из которого коммунисты искали более полугода. До тех пор, пока Зиновьев в Москве не решил, что поднимать восстание все-таки надо. Впоследствии сам он, желая снять с себя ответственность за провал вооруженного выступления и, видимо, не понимая всей нелепости своего повествования, так говорил об этом на 13-й партийной конференции РКП(б) в январе 1924 года: «Должен сказать вам, товарищи, что за наши взгляды, особенно в германском вопросе, ответственность несет весь Центральный Комитет Российской Коммунистической Партии, и превыше всего Политбюро. Этот вопрос затрагивает Россию очень сильно... Представители Центрального Комитета в Коминтерне должны были обсуждать вопросы германской революции во всех деталях на Политбюро» 25.
Но даже после того как в июле Зиновьев все-таки решил, что массовые демонстрации, которые могут вылиться в восстание, необходимы, ничего не произошло. Радек продолжал инструктировать немецких товарищей, что им надо действовать совместно с социал-демократами и обойтись без массовых уличных протестов. «Президиум Коминтерна советует вам не участвовать в уличных демонстрациях 29 июля (на этот день левые силы Германии намечали проведение единого антифашистского дня. — И. Т.), — говорилось в телеграмме Радека германским коммунистам. — Мы опасаемся западни» 26. Радека в этом вопросе поддержал Сталин 27, который уже тогда рассматривал Коминтерн и зарубежные компартии как мощное оружие в руках Советского государства, а не средство для продвижения мировой революции. Собственно говоря, Радек пытался действовать в соответствии с решениями 3-го и 4-го конгрессов Коминтерна, наметивших создание рабочего правительства в Германии на основе широкого участия левых сил. Один из лидеров правых в КПГ Брандлер объяснял задачу партии так, чтобы «социал-демократические лидеры под нажимом масс прекратили быть левым крылом буржуазии и стали правым крылом рабочих» 28. Чуть раньше, после 2-го Конгресса Коминтерна в 1920 году, КПГ уже удалось расколоть партию независимых социал-демократов и присоединить к себе большую ее часть 29. Именно тогда КПГ из малозначительной политической секты превратилась в серьезную партию. Теперь коммунисты хотели проделать тот же фокус и с основной партией социал-демократов. Более того, в июле, на заседании исполкома Коминтерна Радек, уже по собственной инициативе, призвал расширить политическую базу будущего рабочего правительства Германии и включить в него мелкобуржуазных националистов, что фактически открывало дорогу для союза с нацистами, поскольку их главной социальной опорой являлась именно эта часть населения. В позиции Радека не было ничего странного. Там, где недалекий Зиновьев видел лишь сомнительные перспективы мировой революции, лучше информированный Радек пытался найти платформу для стабилизации положения в Германии, ставшей после Рапалло единственной дружественной большевикам державой на Западе. Все это вносило сумятицу в ряды немецких коммунистов и способствовало брожению внутри партии.
В августе, когда забастовочное и протестное движение охватило всю страну и правительство Куно вынуждено было уйти в отставку, большевики, наконец, сообразили, что в Германии, согласно теории Ленина, сложилась революционная ситуация. Опять последовали обсуждения и согласования в политбюро РКП(б) и руководстве Коминтерна. Тем временем в Германии появилось новое правительство. На этот раз во главе с председателем Немецкой Народной партии Густавом Штреземаном. И одним из первых шагов нового канцлера стало приглашение социал-демократов на ключевые посты в правительстве. В новый кабинет вошли, наряду с представителями Партии Центра и Демократической партии, четыре социал-демократа. Этим Штреземан решал задачу, как он сам говорил, «отделения умеренного, конституционного крыла социал-демократов от радикалов» 30. О решительности намерений нового канцлера говорил тот факт, что он хотел, чтобы военным министром в его кабинете был человек, подобный Носке, который подавил восстание спартаковцев в январе 1919 года 31. В итоге во главе министерства остался занимавший этот пост и в предыдущем правительстве Гесслер, в решимости которого также не было сомнений. С приходом нового правительства, получившего название «большой коалиции», дела коммунистов покатились под гору. Их популярность, бывшая на пике в июльские дни массовых протестов, поползла вниз. Членство в партии сократилось с 294 230 человек в сентябре 1923 года до 121 394 в апреле следующего 32. Были еще волнения в Тюрингии и Саксонии, где коммунисты даже вошли в местные земельные правительства, было октябрьское восстание в Гамбурге. Троцкий еще надеялся на очередную ноябрьскую революцию, желая приурочить ее к годовщине большевистского переворота, но все это оказалось лишь судорогами так и не состоявшейся новой германской революции.