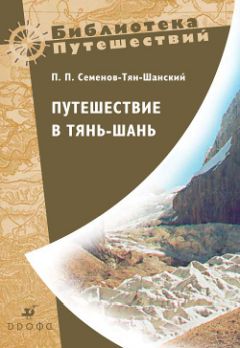Алексей Писемский - Русские лгуны
– Очень жаль, – отвечал Дмитрий Дмитрич тем же равнодушным голосом.
Далее я уже ничего не слыхал, но когда возвратился назад, то увидел, что Доминика Николаевна почему-то лежала в обмороке, и около нее хлопотал Дмитрий Дмитрич. Он поливал ей голову водой, уксусом. Пришел также и Назар и довольно близко остановился около дивана, на котором лежала Доминика Николаевна. При этом одна из ее ног сначала согнулась, а потом вдруг вытянулась и толкнула Назара так, что тот попятился и с прежней своей насмешливой улыбкой вышел из комнаты.
После этого Доминика Николаевна опять как бы впала в обморок, Дмитрий Дмитрич опустился на стул и в утомлении закрыл лицо руками. Несколько времени все мы молчали. Доминика Николаевна открыла, наконец, глаза.
– Где я? – проговорила она.
– У себя на балконе, – отвечал Дмитрий Дмитрич.
Доминика Николаевна начала подниматься, как поднимаются обыкновенно в театре актрисы после обморока. Дмитрию Дмитричу, кажется, сделалось совестно за нее; он отвернулся и не смотрел на нее. Чтобы не помешать разговору, который мог между ними начаться, я снова сошел в сад, и когда возвратился оттуда, Дмитрий Дмитрич стоял уже со шляпою в руках. Доминика Николаевна сидела, как разваренная в воде: волосы у нее спускались на лоб, голова была опущена, руки опущены.
Когда я с ней прощался, она с чувством взглянула на меня.
– Мой добрый привет вашей матушке, – проговорила она больным голосом.
Когда с ней прощался Дмитрий Дмитрич, она подала ему, точно плеть, слабую руку и, кажется, не имела даже силы ответить ему поцелуем в щеку.
Мы вышли и сели в экипаж. Дмитрий Дмитрич упросил меня сесть с ним.
– Фу, – произнес он, как бы человек, вырвавшийся из тюрьмы на свежий воздух.
– Что такое с Доминикой Николаевной? – спросил я.
Дмитрий Дмитрич пожал плечами.
– Вы видели? – отвечал он мне больше вопросом. – Подобные сцены, – продолжал он с расстановкой и грустно-насмешливым голосом, – она делает мне на бале, на рауте, при двухстах, трехстах человек…
– Зато какую она к вам искреннюю дружбу питает!
– Mais, mon cher![17] – воскликнул Дмитрий Дмитрич. – Дружба, я полагаю, все-таки должна выражаться со стороны женщин скорей самоотвержением, чем тиранией. Она, наконец, хочет войти во весь порядок моей жизни, заставить там меня пить чай или нет, держать в доме таких людей, а не других; этого нельзя. Назар! – крикнул он затем сладким голосом. – Дай мне сигару!
Назар, сидевший на козлах рядом с кучером, вынул из-за пазухи сигару, сам закурил ее и подал барину. Дмитрий Дмитрич взял и с наслаждением стал попыхивать из нее дымом.
– У человека вашего физиономия совсем не русская! – заметил я ему.
– Да, il est… je ne sais pas pour sur…[18] армянин, или грузин, или черкес – не знаю… но превосходный человек… чудо… это мой эконом, нянька, мамка моя! – И затем Дмитрий Дмитрич опять стал с наслаждением попыхивать.
– Encore un mot об Доминике Николаевне, – начал он, – tout le monde dit, que je suis son amant….[19]
Я улыбнулся.
– Mais се n'est pas vrai[20]. Я люблю изящное в природе, в картине, в поэзии, в мужчине, в женщине. Но Доминика Николаевна каким образом может быть отнесена к изящному?
– Какое же, собственно, ваше чувство к ней? – спросил я. По молодости моих лет я любил тогда потолковать о психологической стороне человека и полагал, что люди так сейчас и скажут в этом случае правду.
– Чувство простого уважения, – отвечал Дмитрий Дмитрич, – которое я имею ко всякой женщине, равной мне по воспитанию и по положению в обществе; это – результат моих привычек. Я – человек, порядочно воспитанный, и чувство вежливости всосал с молоком моей матери.
На этих словах мы уже подъезжали к перекрестку, на котором должны были разъехаться; я попросил остановиться и выпустить меня.
– Adieu, cher ami[21], – сказал Дмитрий Дмитрич, пожимая мне с нежностию руку. – Назар, пересядь ко мне в экипаж! – крикнул он потом.
Назар пересел, и я видел, что Дмитрий Дмитрич прилег ему на плечо, как бы желая вздремнуть. Поехали. Утро между тем совершенно уж наступило. Пара моих лошадей после поворота, узнав дорогу домой, побежали быстрей, на меня подуло свежим ветром; с реки подымался густой туман росы; выкатившееся на горизонте солнце было такое чистое, на деревьях, на траве блестели крупные капли росы – все это было как-то молодо, здорово и полно силы, и как вся эта простая природа показалась мне лучше изломанных людишек, с их изломанными, исковерканными страстишками!
Когда я дописывал эти последние строчки, мне сказали, что приехал старик кокинский исправник[22] и желает меня видеть.
– Боже мой, – воскликнул я в восторге, – его-то мне и надо! – и пошел навстречу гостю.
Старик очень постарел, сделался совсем плешивый, глаза у него стали какие-то слезливые, но говорун, как видно, оставался по-прежнему большой.
– Скажите, пожалуйста, – начал я, усаживая его, – живы ли ваши соседи, Доминика Николаевна и знаменитый Дмитрий Дмитрич?
– Он помер, а она еще жива.
– Что ж, страсть их все продолжалась?
– Как же-с, до самой смерти его все путались, ссорились и мирились, видались и не видались.
– Он, однако, мне сам говорил, что не был ее любовником.
– Нет-с, не был; людишки вот ихние часто тоже бегали к нам и сказывали, что она, как они выражаются, одной этой сухой любовью его любила… он ведь в этом отношении, вы слыхали, я думаю…
– Ну да, из-за чего же он-то?
– Из-за денег больше, надо полагать, говорил и делал ей эти разные комплименты. После ссоры, бывало, помирятся, он станет перед ней на колени, жесты этакие руками делает, прощенья в чем-то просит – умора! Неглупые были оба люди, а уж какие комедианты и притворщики, боже упаси!.. Перед смертью Дмитрия Дмитрича любимый камердинер его обокрал, все, какие там были у него деньжонки, перстеньки, часы, ковры, меха – украл и бежал, так что уж он и не разыскивал. Доминика Николавна перевезла его к себе, на ее руках он и помер; пишет мне: «Помогите, говорит, похоронить моего друга!» Приехал я к ней, сидит она на диване, глаза представляет как у помешанной, и все точно вздрагивает. «Сама, говорит, смерти хочу!» – а форточки, заметьте, не позволяет отворить: простуды боится. Покойник промеж тем лежит в зале; я скорей, чтобы его в церковь стащить; только мы, сударь, подняли гроб, она и вылетает. «Куда вы, говорит, моего ангела уносите? Не пущу, не пущу!» – и сама уцепилась за гроб и повисла. «Ах ты!» – думаю. «Хорошо, говорю, ребята, оставьте!» Оставили ей гроб, а сам ушел. Посидела она этак, целый день, однако, высидела, но видит – невтерпеж, опять шлет за мной.
– Унесите, – говорит, – теперь – можно.
VII
История о петухе
– Вот мы с вами вчера насчет комедиантов говорили, – начал старик Шамаев, пришедши на другой день ко мне обедать. – Становой у меня был, такой тоже актер, что какую, кажется, роль только хотите, он может разыграть перед вами; родом он был из хохлов, по фамилии Карпенко, и все это, знаете, в каждом слове, в каждом шаге своем делал лицемерство. Определяясь на службу, в стан приехал в самый храмовой праздник, народу собралось почти что со всего уезда. Не заходя никуда, господин Карпенко прямо в церковь и тихим голосом подзывает к себе церковного старосту. «В какую, говорит, икону народ больше веры имеет?» – «Феодоровской престол-то», – отвечает ему мужик. Он сейчас помолился перед этой иконой и первый ей свечку поставил. После обедни зашел в другое наше собрание – в кабак; пьяных там, как поленьев, по углам валяется. Вместо того чтобы велеть их подобрать, еще ободрил: «Пейте, говорит, православные: рабочему человеку выпить надо!» По лавкам потом пошел, к каждому торговцу с поклоном и приговором: «В честь и в деньги торговать!..» – и так дальше пошло: тихо, смирно, ласково, только никто что-то этому не верит. Ни одного безмена у торговцев не оставил, чтобы не оглядеть, клейменый ли он, да еще подсылы делает, верно ли продают. Где мертвое тело поднимут, точно стопудовая гиря свалится на селенье; сидит-сидит, пока пятидесяти, ста рублей не сдерет с мужиков; да потом их же соберет в сборную, прямо поднимет у них перед глазами с полу соринку: «Вот, говорит, мне чего вашего не надо». Те после и говорят: «Что, наши деньги-то он хуже соринки, что ли, полагает?» Слышу я все это, вызываю его к себе, говорю ему, вдруг он заплакал: «Слезы, говорит, мой ответ!» – «Ах, боже ты мой, думаю, мужчина, в кресте военном, плачет, что такое это?» В другой раз губернатор на него на ревизии напустился: «Почему, говорит, вас все не любят?» – «Мнителен, говорит, ваше превосходительство, я очень по службе!.. И себя мучу и другим не угождаю!» А губернатор, заметьте, сам был премнительный человек, и поверил ему… Это вот, изволите видеть, он – тихий, а то и строгим, крикуном иногда прикидывался. Едет он раз мимо одного села богатого, тысячи две душ… и только еще, знаете, в околицу-то въехал, закричал, загайкал… Сотские были народ наметанный, сбегаются, видят: сердит приехал! Прямо входит он в сборную и обращается к одному из них: