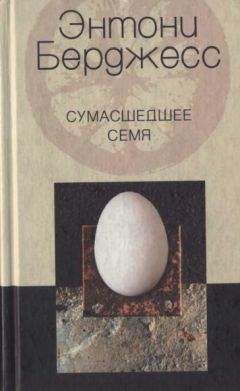Энтони Берджесс - Хор из одного человека. К 100-летию Энтони Бёрджесса
— В том, что предлагает Уил, — заглушая недовольные голоса, проревел Бёрбидж, — много дельного. Тогда нас не смогут обвинить в легкомыслии. И на следующий день Гамлет с Фальстафом вместе выедут на арену. Присутствующий здесь Ник Тулей доселе подменял Гамлета. Пришло тебе время его сыграть. Он тоже высокий, худой, поэтому строчку насчет того, что он тучный и страдает одышкой, которая так хорошо подходила мне раньше, но, слава Богу, уже не подходит, надо убрать. Алекс Кук исполняет у нас роль королевы Гертруды, но будет играть также мистрис Квикли. Обе они, каждая по-своему, дурные женщины. Смертей у нас достаточно, в том числе и смерть Хотспера, то есть короля, вторгшегося со своим войском. Но Гамлет не умирает, поэтому это не трагедия.
— В таком случае, это комедия о Гамлете, принце датском? — спросил Джек Андервуд.
— Дело в Ангии происходит или в Данлии? — желая сострить, осведомился Джек Шэнк.
— Имя Хотспер, — сказал Бёрбидж, — больше похоже на датское, чем Клавдий. Довольно умничать. Уил уже меняет порядок сцен. Может получиться пьеса, лучше которой мы еще не играли.
— Самая длинная, уж это точно, — сказал Уил Слай.
Самая длинная, конечно.
— Что ж, — сказал Уил Сервантесу, когда собравшиеся в четыре утра неверным шагом разбредались по своим комнатам, — по-прежнему считаете, что нам не хватает комического?
Дон Мануэль перевел. Сервантеса, по-видимому, успокаивало присутствие валившегося с ног от усталости маленького мальчика-мавра, которого он прижимал к своему левому боку.
— Слишком долгая, — сказал Сервантес.
— Следует отправить ее к брадобрею с вашей бородой.
— ¿Como?[109]
— Она никоим образом не так длинна, как ваш проклятый как вы его называете, роман.
— Я не называю его проклятым. А толстяка и долговязого вы у меня списали.
— Ах, нет. Они уже были в Лондонском театре, прежде чем я узнал о вашем существовании. Что на это скажете?
— Я ни слова не понял.
— Это ваша трагедия.
На следующий день после полудня возобновились испано-британские переговоры, но утром все еще предавались столь необходимому сну. В это время один рыжеволосый испанец по имени Гусман, спросил у сэра Филипа Спендера на своем утробном тосканском:
— Будут еще играть эти бесконечные комедии?
— Предполагается дать вечером «Комедию о принце Гамлете», чтобы вы могли оценить ее многообразные и противоречивые достоинства. — Сэр Филип предвкушал представление с радостью: все предыдущие спектакли он преспокойно проспал. — В таком случае, нам, вероятно, следует поспешить с выработкой условий вечного мира. У меня такое впечатление, что жители Вальядолида будут рады отъезду посланцев британской земли. Так что всецело в наших интересах поторопиться и закончить.
— Аминь, — сказал Гусман. — Не вижу причин не закончить переписывание документов к завтрашнему вечеру.
— Имеете в виду истинное завтра или не столь истинное mañana?
— Имею в виду дату, следующую за сегодняшней. Что может означать полночный ужин и, ах, никаких развлечений после него.
— Подобные дела всегда отнимают много времени. Можем показать пример проворства, достойный подражания За работу, мои государи и господа!
— Аминь.
После полудня, но до отъезда британских посланцев состоялась обязательная коррида. Уил от ее посещения уклонился. По арене проехали высокий худощавый принц в черном и полный рыцарь в одежде из тонкого полотна. Их приняли за дань британцев имеющей уже прочные основы испанской традиции, и потому публика всадников приветствовала. На куске ткани, поднятом Пистолем и Бардольфом, были выведены слова: VIVAN LAS MUCHACHAS Y EL VINO ESPAÑOLES[110]. Так что все закончилось миром. Уил к тому времени уже уехал, желая по пути на родину посетить Русийон. Все хорошо, что хорошо кончается.
Роман «Дон Кихот» он прочел только в 1611 году, тогда же закончил свой перевод Шелтон, а также появилась Библия короля Якова[111]. Ссылки на худощавого рыцаря и его толстого спутника встречаются в произведениях Бена Джонсона, Бомонта и Флетчера, но в пьесах Шекспира — ни разу. Во время своей последней болезни, начавшейся в 1616 году, он по-прежнему мрачно размышлял о том, что Сервантес опередил его с созданием героя всех времен и народов. Шекспир и Сервантес умерли в один день, но, поскольку испанский календарь на десять дней опережал британский, можно сказать, что даже и в смерти Сервантес опередил Шекспира.
Дон Мануэль де Пулгар Гарганта больше не встречался с Шекспиром, но в 1613 году присутствовал при пожаре, уничтожившем театр «Глобус», во время первого представления пьесы «Король Генрих VIII» (называвшейся в то время «Все верно»). Тогда от церемониального выстрела пушки загорелась соломенная крыша. Люди выстроились в цепочки, передавали друг другу ведра воды из Темзы, но пожар в здании остановить не удалось. Театр со всем своим имуществом погиб в огне. Дон Мануэль встречался в таверне с Джеком Хеммингсом и Гарри Корделом, с триумфом утолявшими жажду, ибо им удалось спасти из огня большую часть произведений своего поэта. Но пьесы «Только подумайте, что так могло бы быть», «Комедия о Ламберте Симнеле» и «Победившие усилия любви» оказались безвозвратно утрачены.
— Издайте их, — сказал дон Мануэль, — для потомков в виде книги.
— В виде книги? Издать пьесы книгой?
— Фолио. Это было бы важное дело. Только полное собрание его сочинений может сравниться с тем, что задумал я.
— А что вы задумали?
Дон Мануэль счел за лучшее солгать.
— О, — сказал он, — если не сочтете за святотатство — издать Библию вашего короля Якова.
Энтони Бёрджесс
Твое время прошло (You’ve Had Your Time)
Фрагмент автобиографии
© Перевод Валерия Бернацкая
Первый том этих воспоминаний в Европе был снабжен подзаголовком «Исповедь», а в Соединенных Штатах — «Автобиография». Мой американский издатель окрестил первую книгу «Автобиографией», как будто ее прежнее жанровое обозначение было чем-то уникальным. Книга и впрямь уникальна, но только в том смысле, что это единственная написанная мной автобиография, — правда, американские рецензенты имели в виду совсем другое. Не понимаю, почему подзаголовок «Исповедь» не устроил американского издателя. К этому жанру с почтением относились и блаженный Августин, и Жан-Жак Руссо, и я пытался, в меру своих сил, следовать искренности этих авторов, ни в коей мере не претендуя на столь же высокие литературные достоинства. Я достаточно давно знаком с католической церковью и знаю, что исповедоваться может каждый и, более того, должен. Но, возможно, в Америке исповедь не имеет изначально духовного смысла. Существовал, а может, и сейчас существует, журнал «True Confessions»[112], откровения в котором чисто эротического свойства.
Не скрою, некоторые места в первом томе не лишены эротики, но она занимает в книге не слишком много места. Тем не менее многие критики тут же сделали стойку, желая выставить меня сексуальным маньяком или, в лучшем случае, потворствующим своим желаниям болтуном. Характер автора действительно не назовешь привлекательным, но разве, исповедуясь, стараешься представить себя милашкой — во всяком случае, в католической традиции? Ведь тебе нужно не восхищение, а прощение. Сама книга тоже не всем доставила удовольствие, и все же несправедливо называть ее «всякой всячиной, себе на утеху», как сделала одна журналистка. В сочинительстве вообще нет «утехи», если только ты не порнограф и не пишешь себе на потребу. Писательство — тяжкий труд. Если эта книга — «всякая всячина», то такова и изображенная жизнь, и вообще жизнь каждого человека.
Но мне доставит удовольствие ответить самым строгим моим критикам — редкая возможность в середине повествования (ведь обе мои книги составляют одну), если это только не роман Д. Г. Лоуренса. Я имею в виду восхитительного «Мистера Нуна»[113], которого писатель обрывает посреди действия и тем самым натягивает нос ретивым рецензентам. Но даже суровым нагоняем нельзя добиться духовного перерождения племени критиков, которые мстительны по самой природе. Я тоже занимался рецензированием и знаю, какое это удобное средство для выражения неприязни, хотя сам старался быть объективным и рассматривал книгу, скорее, как артефакт, чем эманацию чьей-то личности. Если б меня одолела жажда мести, я обрушился бы лишь на немногих критиков, но все они уже в другом мире.
Правда, один человек еще жив, он поднялся намного выше обычного продажного писаки и теперь заведует государственными средствами, выделенными на поддержку литературы. Это Чарльз Осборн. Когда его попросили назвать три, по его мнению, переоцененных литературных произведения, он назвал «чересчур эксцентричный, на грани бульварного, роман „Любовник леди Чаттерлей“, легковесную комедию „Ночь ошибок, или Унижение паче гордости“[114], а также все вышедшее в последнее время из-под тяжеловесного пера Энтони Бёрджесса (неважно, что именно и как это оценят критики)». Создается ситуация вполне пригодная для метафизического вопроса: как можно судить еще не написанную книгу? Хотя признание цельности моего творчества приятно — пусть даже в тяжеловесности.