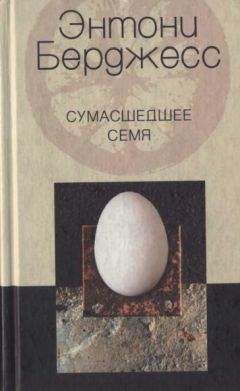Энтони Берджесс - Хор из одного человека. К 100-летию Энтони Бёрджесса
Еще снился другой, более короткий и приятный сон о том, как он, Уил, проплывает под Клоптонским мостом, перекинутым через Эйвон. Чистый воздух, добротная деревенская провизия. Но проклятый город кишел пуританами, ненавидевшими маэстро Шэгспо или Шогспо — какое угодно имя, но только не его настоящее. Он проснулся от яркого испанского солнца и узнал, что настал день корриды.
В тот день вокруг арены собралась публика обычного для Вальядолида сорта, она улюлюкала британцам, явившимся в красивой одежде и плащах. Уил сидел в тени с актерами — все они жевали орехи и пришли на корриду в нарядных королевских ливреях. Зрелище началось с пронзительного сигнала трубы, затем на арену рысью выехал долговязый пожилой человек в картонных доспехах и шлеме, порванном, но сшитом веревочкой, с копьем, когда-то сломанным, но теперь составленным из обломков и неопрятно чем-то замотанным. Он ехал на жалкой кляче, под ее шелудивой кожей легко угадывались кости. За ним верхом на осле следовал толстый коротышка, то и дело подносивший к губам в косматой бороде протекавший мех с вином. В ответ на рукоплескание толпы, явно благоволившей к этому дуэту, долговязый и толстяк приветственно помахивали руками. Вслед за ними на арену вышли, прихрамывая, двое мужчин, одетых по-монашески, и остановились на изрядном расстоянии от первой пары. Каждый из них держал в руке длинный шест с полотнищем, на котором было начертано PAX ЕТ PAUPERTAS[104]. Толпа взревела в знак одобрения и снова стала освистывать и обшикивать британцев.
— Пародия на рыцаря и его толстого оруженосца. Это герои книги? — спросил Уил дона Мануэля.
— В значительной степени. Но для книги они слишком велики, поэтому удрали из нее, как из темницы.
— Гамлет и Фальстаф были заключены в темницу, каждый в своей пьесе, — мрачно размышлял Уил. — Никогда бы их не приветствовала восторженная толпа на освещенной солнцем арене. Но какое ему до этого дело? Земля, вот о чем надо было думать, о мешках с солодом, запасенным на случай плохого урожая. Пьесы — всего лишь пьесы. — Он застонал вслух и скрипнул плохими зубами.
Но вот под восторженные крики и аплодисменты горе-рыцарь и его толстый оруженосец удалились. Началось действо, ради которого все собрались. На арену строем вышли вооруженные шпагами тореадоры, дамы в черных мантильях бросали им цветы. Затем выпустили фыркающего быка. Его безжалостно дразнили толстозадые мужчины с причудливыми копьями. Потом бык распорол лошади бок, наружу вывалились кишки.
Публика пришла в восторг, будто на представлении высокой комедии.
— Пойду-ка я отсюда, — проворчал Уил, обращаясь к Бёрбиджу. — Насмотрелся. Не вижу ничего смешного в волочащихся по песку внутренностях, — сказал он и пошел к выходу под насмешки своих товарищей-актеров. На площади он отдал несколько британских серебряных монет за виноград, получил позволение помыть его в бочке с вином, где плавали остатки от объеденных гроздей, и принялся с угрюмым видом жевать. И по мнению этого-то народа в «Тите Андронике» слишком много насилия! Бёрбидж и остальные могут делать что угодно после ужина, на который пожалуют герцоги и принцы, но он, Уил, не станет строить из себя шута, чтобы потешать живодеров. Он любил лошадей и был безутешен, когда принадлежавшего его отцу Гнедого Гарри, смирного коня с запекшейся болотной грязью на щетках, повели на двор к скупщику старых домашних животных, чтобы сварить из него клей.
В тот вечер, пока подправленная комедия «Напрасные усилия любви» убеждала высокородных испанских зрителей, что британские актеры либо заставляют скучать, либо повергают в ужас, но неспособны ни привести в восторг, ни просветить, перед собором жарили убитого на корриде быка. Потом мясо раздавали шумной бедноте. Потные плебеи давились за сухожилиями и хрящами, вырывали друг у друга из рук обуглившиеся куски филейных частей.
— До чего же я ненавижу чернь, — думал Уил, с мрачным удовольствием наблюдая за происходящим — оживленные лица, шипящий от стекающего жира огонь, невозмутимый фасад величественного собора.
С доном Мануэлем подошел человек, чье лицо показалось Уилу как будто знакомым. Взглянув на Уила, он насмешливо ухмыльнулся и сказал что-то, из чего понятным показалось лишь слово «майда», что по-арабски означает желудок. Предположение подтвердилось: человек, усмехаясь, повторил то же, на этот раз, несомненно, по-кастильски — эстомаго. Дон Мануэль сказал с сожалением:
— Он говорит, что желудок у вас выносит кровь и кишки в театре, но вы отворачиваетесь от них в жизни. Как, например, сегодня. Он видел, как вы ушли. Простите, что не представил вам ранее, это Мигель де Сервантес Сааведра. Уильям Шекспир.
— Чекуеспирр? — Имя испанцу решительно ничего не говорило.
— Работаю, — сказал Уил, — в масрах в Лондрес. Действительно, не имею шахийа к дэм. Я муалиф, который должен юти людям то, что они желают видеть. Лиматза? Потому что такова моя михна.
По-видимому, это Сервантеса не убедило. Он был краснолиц, седобород, смугл и морщинист. Волосы заметно редели, отступая от жутковатых висков.
Он горбился, будто гребец, налегающий на галерное весло, и казалось, вот-вот сморщится от боли, получив по спине ожидаемый удар плетью. Уил рядом с ним чувствовал себя белоручкой, баловнем судьбы, не знающим, что такое страдание.
— Позвольте предложить вам что-нибудь йашраб? — сказал Уил. — Выпить? — Сервантес пожал плечами. Пить с человеком, не знающим языка? С которым невозможно поговорить? Он сказал что-то еще. Дон Мануэль перевел, что Сервантес приглашает их обоих к себе в дом. Там есть вино, и оно лучше, чем чернила, от которых болит живот, и моча, которую продают в винных лавках. Сервантес ненадолго окажет гостеприимство товарищу по профессии, писателю, приехавшему из страны, которую, как говорят, следует считать врагом Испании, а потому и врагом всего человечества. Но гости не должны задерживаться. У него, Сервантеса, болит голова, и он вскоре попытается заснуть, чтобы она прошла. Они втроем пошли от угасающего костра и скелета быка, с которого уже почти все срезали. Сервантес прихрамывал.
— Человек, — думал Уил по дороге, — в отличие от зверей полевых наделен даром речи, но стоит ему оказаться за пределами родины, оказывается, что в этом даре нет никакого толку. Животные же вполне понимают друг друга. Вавилонская башня — не миф.
О, Боже! Чем отличен от скота мужчина?
Не отсутствием хвоста.
Кто объяснит? Возможно — даром речи.
Им можно хвастаться, себе противореча,
когда б не малость. Ведь в любой стране
есть свой язык, и он — чужой вполне
соседям. Где же польза? Тут король
сказал: она ничтожна. Только роль…
Лишенный поэтического дара бедняга Дик Бёрбидж добавил свои неуклюжие вирши к речи Болингброка из трагедии «Ричард II». И все же сказанное в них верно.
Дом Сервантеса был мал. В нем пахло кухней — чесноком, оливковым маслом, специями; эти запахи Уил хорошо помнил по мавританским базарам. В крошечной гостиной стояли табуретки с сидениями в виде мавританских седел, закапанный чернилами круглый стол и было разложено около восьмидесяти книг. Одна из них лежала на истертом мавританском ковре у ног Сервантеса, занявшего с эгоизмом, не украшавшим гостеприимного хозяина, единственное находившееся здесь кресло. Уил и дон Мануэль расположились на довольно низких седлообразных табуретах. Сервантес подтолкнул ногой книгу в сторону Уила, и тот смиренно ее поднял. «Гусман де Альфараче»[105] некого Алемана. Вероятно, немец, судя по имени. Один из новомодных романов. Сервантес говорил. Дон Мануэль переводил.
— Книга о беспутном юнце, растущем в беспутном мире, за один только прошлый год выдержала двадцать изданий. «Пикареско», впрочем, сомневаюсь, чтобы вам это слово было знакомо. Роман отвечает глубинным потребностям испанской души — стремлению быть высеченным и подпаленным разгневанным Богом-отцом, который и пальцем не шевельнет, чтобы помочь тому, что, как нам говорят, является его дражайшим созданием, но, скорее, поставит разного рода препоны на его пути. И по окончании злосчастной жизни этому созданию нет ни мира, ни покоя, одни вечные муки. Вот такого рода повествования пользуются успехом у нашего народа. Именно такого ожидают от меня, когда, покинув суетный и не приносящий вознаграждения мир театра, я занимаюсь на досуге прозаическим повествованием. Любой Дон Кихот побит, и покрыт синяками, и сломлен в зубодробительной кровавой потехе, которую разыгрывает с нами Господь Бог. Вместо этого я даю им комедию.
— Хайа сейи для всех, — сказал Уил.
Сервантес взорвался, а дон Мануэль, не взрываясь, перевел согласные, произнесение которых сопровождалось брызгами слюны, и воплеподобные гласные: