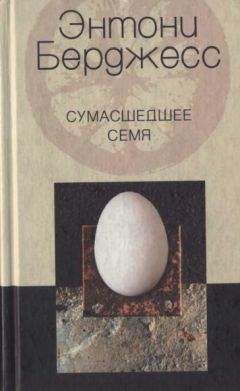Энтони Берджесс - Хор из одного человека. К 100-летию Энтони Бёрджесса
Сервантес взорвался, а дон Мануэль, не взрываясь, перевел согласные, произнесение которых сопровождалось брызгами слюны, и воплеподобные гласные:
— О, не играйте в моем присутствии с дурно выученными и скверно произнесенными арабскими словами. Для меня арабский — язык пытки и угнетения. Говорите на своем безбожном северном языке, которым, я полагаю, вы, по крайней мере, хоть как-то владеете. Говорю это о вас, англичанах, — вы не страдали. Вы не знаете, что такое му́ка. Из своего дьявольского самодовольства вам никогда не создать литературы. Вам нужен ад, который вы покинули, вам нужен адский климат — холодные ветра, огонь, засуха.
— Мы стараемся изо всех сил, — кротко сказал Уил. — Но позвольте смиренно осведомиться, что вы можете знать о нашей литературе? Вы не знаете английского, а наши книги и пьесы еще не переведены на кастильский. Вероятно, по заключении мира взаимный обмен знаниями оживится…
— Мир, мир! Какой может быть мир?! — Сервантес выкрикивал слово «paz», как если бы это было название какой-то болезни. — Вы отпали от истинной веры и уклонились от противостояния с язычниками-мусульманами. Вышвырнуть их из святых мест, подорвать их господство на Среднем море — вот цель единственной войны, которую стоит вести. Мусульманин пришел сюда осквернить нашу латинскую веру, а вы и пальцем не пошевелили. Играете с кровью и людоедством в глупых сценических пьесках…
— Только в этой. Уверяю вас, «Тит Андроник» — пьеса далеко для нас не характерная. Вероятно, дело в языковом барьере…
— Барьер в душах, а не в языке и не в зубах. Вы — гнилой член, отрезанный от древа живого христианства.
— Не толкуйте мне о душах, — возвысил голос Уил. — С вашего позволения, вы, испанцы, рассматриваете Бога как дрянного отца, человека — как неисправимую скотину, а душу его поручаете палачам-священникам, которые добиваются признаний, поджаривая вопящую жертву в языках пламени. Так что не толкуйте мне о душах.
— Представления Алемана о мире не имеют к моим никакого отношения. Милостивый Бог существует где-то далеко от жирных епископов и поджарых палачей. И как мы ищем этого милостивого Бога? Не в трагедиях загубленных жизней, но в комедиях, пародийных одиссеях. Такое открытие могло быть сделано только здесь, здесь, здесь! — и говоря это, он левой рукой обводил воображаемую карту Иберии, в то время как правой ударял себя в грудь. — Именно посредством комического можно приобщиться великой духовной истине, существованию милостивого Бога. Ваша вчерашняя глупая пьеска была смешна в другом смысле. Вы, англичане, неспособны принять Бога. Вы не страдаете и не можете сделать комедию из того, чего не существует в вашей зеленой стране с умеренным климатом…
— …которую вы никогда не видели.
— Я вижу ее в вас, в вашем мягком взгляде и необветренной коже. В вашей чаше нет горечи.
— Это мы еще не раз услышим, — сказал Уил, нисколько не смутившись. — Будем и далее слышать, что мы не страдаем, как поротые московиты, запуганные жители Богемии и экстатичные испанцы. И что вследствие этого наше искусство ничего не стоит. Нас уже тошнит от этого и еще будет тошнить.
— Вам никогда не создать «Дон Кихота».
— Да с какой стати нам его создавать? — горячо возразил Уил. — Я создал и создам другое. «Да так ли? — подумал он. — Желаю ли я создать»?
— Я создал хорошую комедию, да и трагедию, каковая требует величайшего мастерства в драматургии, — вслух сказал Уил.
— Вовсе не величайшего и никогда не потребует. Бог — комедиант. Он не переживает трагические последствия ущербной сущности. Трагедия слишком человечна. Комедия же священна. Эта голова меня убивает.
Глаза Сервантеса, казалось, мерцали в свете свечи, стоявшей возле его кресла. Он не предложил гостям вина. Уил уже был сыт испанским гостеприимством, которое, как можно было предполагать, заключалось в презрении и порицании.
— Мне надо лечь, — сказал Сервантес.
— О комедии вы говорите в высшей степени некомично, — заметил Уил. — Вы не создали ни Гамлета, ни Фальстафа. — Но эти имена ничего не говорили Сервантесу, страдавшем, от мигрени, бывшему рабу на галерах, долго ожидавшему выкупа родным королевством, а затем принужденного возвращать заплаченные за себя деньги с ростовщическими процентами.
— Я видел ваши пьесы, — сказал дон Мануэль, — и прочел «Дон Кихота». Простите ли вы меня, если я скажу, что лучше? Вам не хватает полноты Сервантеса. Он лучше знает жизнь и обладает властью над словом, чтобы передать и плоть, и дух одновременно. Плоть и дух вышли сегодня на арену, и публика узнала их, и восторженно приветствовала. Простите меня и не сочтите, что я принижаю ваши достоинства.
— Я лишь зарабатывал себе на хлеб. Искусство — не что иное, как средство к существованию. Сервантес может быть втрое более великим, мне-то какая разница?! Я же ни на что не претендую.
— Ах, нет, претендуете.
Уил обиженно посмотрел на дона Мануэля, затем с опаской на Сервантеса, который при этом взвыл от боли.
— Идите, идите, — сказал Сервантес, — вам не следовало приходить.
— Меня пригласили. Но я уйду.
— Надо перенести эту раскалывающуюся голову в темную спальню. Допивайте вино и уходите.
— Вина не было, допивать нечего.
— Причастие без вина и без хлеба[106], — пробормотал Сервантес и, пошатываясь, побрел из гостиной. Уил и дон Мануэль переглянулись. Уил пожал плечами, оба они вышли на темную улицу и направились в сторону постоялого двора, где остановились актеры. Луны не было, только звезды сияли.
— Можно прочесть его книгу, пока мы здесь? — спросил Уил.
— Для этого надо в достаточной степени овладеть испанским.
— Многое будет зависеть от того, сколько времени уйдет на заключение вечного мира.
— Могу перевести вам отдельные места, чтобы дать представление о качестве целого.
— Можно переделать его книгу в пьесу?
— Нет. Она очень велика, это одно из ее достоинств. Такое долгое путешествие не уложить в два часа, отпущенные вам на сцене.
Уил горестно вздохнул.
— Краткость — в природе сценической пьесы. В книге есть поэзия?
— Он ведет повествование просто, без затей. У него нет вашего дара острого и живого, но сжатого изложения. Но он ему и не нужен.
— Так он, в таком случае, не поэт! — просиял, хоть это и было незаметно в темноте, Уил.
— Не поэт, как и вы.
— Вот это что-то да значит. Поэзия не выходит на арену и не вызывает приветственного воя черни.
— Вижу, вам досадно, что они вышли из книги и живут в нашем мире.
— Некоторым образом.
Уил уже спал ко времени возвращения Бёрбиджа, который не стал его будить и рассказывать, что сильно сокращенная постановка «Комедии ошибок» прошла неплохо, лишний раз подтвердив, что английские драматурги сильны комическими интермедиями и непритязательными шутками. Уил проснулся на рассвете.
— А? Что? Который час? Ради бога!
— Вставай. Дел полно. Все должны собраться. Пойду пинками поднимать их с постелей вместе со шлюхами и мальчиками, которых они к себе затащили.
Джек Хеммингс, Гас Филипс, Том Поуп (его малосвятейшество), Джордж Брайан, Гарри Кондел, Уил Слай, Дик Каули, Джек Лавайн, Сейнт Алекс Кук, Сэм Джильбёрн, Роберт Армин, Уил Ослер[107] (не умеющий обращаться с лошадьми), Джек Андервуд, Ник Тулей, Уил Эклстоун, Джозеф Тейлор, Роб Бенфилд, Роб Гау, Дики Робинсон, Джек Шэнк и Джек Райс сидели, мор гали, морщились от яркого испанского солнца и недоверчиво слушали своего поэта, недовольные тем, что их разбудили, а также указаниями и поджаренным хлебом, которые им предстояло проглотить. Дик Бёрбидж все это уже знал и теперь только пожимал плечами и закатывал глаза.
— Завтра или послезавтра, — говорил Уил, — играем «Гамлета», но не так, как прежде. Введем в пьесу Джона Фальстафа. Не удивляйтесь так и не вздрагивайте. Тут нет ничего сложного. В «Гамлете» принца посылают в Англию, где его должны убить по приказу короля. Там, прочитав и уничтожив приказ, он слышит о датском войске, которое должно вторгнуться в Англию, чтобы наказать ее за неуплату дани. Наконец он понимает, что ему следует делать. Поставленная цель наряду с поддержкой Фальстафа и его людей заставляет Гамлета отбросить мысли о самоубийстве.
Фальстаф может звать Гамлета «милый Гам» вместо «милый Гал», тут различие всего в одну букву. Война прекращается с распространением вести о смерти короля Клавдия. Гамлет направляется в Эльсинор, чтобы занять трон отчима. Фальстаф со своими людьми следует за Гамлетом, но тот с ними под конец, разумеется, порывает. Клавдий все еще жив, и Лаэрт должен убить Гамлета в фехтовальном поединке, но не явно, поскольку принц любим возмущенной чернью. Все заканчивается так же, как и прежде, но только Гамлет остается жив, а Фортинбрас предъявляет права на престол. Как видите, тут почти ничего не надо менять, требуется только кое-что добавить. Играть вам придется около семи часов подряд, но, если им не понравится, нас могут отправить восвояси. Предпочтительнее было бы за море. Я не прочь повидать Русийон[108].