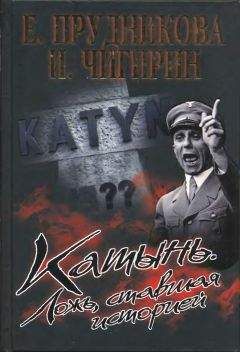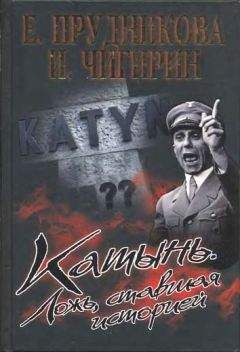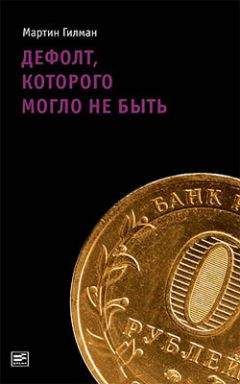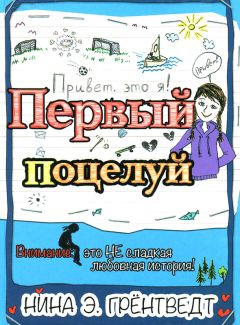Карен Свасьян - Европа. Два некролога
— в надежде, что более прогрессивные соседи смилостивятся над ним и инвестируют в него свои тени. Денацифицированным (= бестенным) немцам надлежит заново быть оте- ненными. Перевоспитание немецкой нации под девизом морально–полицейского профи- лактикума: не думай, живи! — представляет собой не больше не меньше как ТРАНСПЛАНТАЦИЮ ТЕНИ. Немецкая тень, покрывшая между 1933–1945 годами Германию и Европу под именем Адольф Гитлер, после 1945‑го и по сей день называется — вина. С той же легкостью, с какой между 1933 и 1945‑м поверили, что немец — это спаситель мира, нынче верят, что немец — выродок мира и заслуживает не больше, чем насмешки и презрения.
Хотя немецкий двойник и изъясняется всё еще по–немецки, но уже так, что в Вашингтоне, Лондоне и Москве его понимают без переводчика. Немецкий двойник нынче опознает себя уже не в леденящих кровь гейне–шубертовских звучаниях, а в пароле Запада: no problem. Соотечественникам Гёте, бесспорно, впору было бы подумать о том, что кроме метаморфоза растений есть еще и метаморфоз террора. Не в старой диалектике кнута и пряника, а в превращениях кнута бомбежек и перевоспитания в пряник «хозяйственного чуда ФРГ». Карл Шмитт, неперевоспитуемый и несравненный, записывает 20 мая 1949 года: «Чудо немецкой марки: Томас Манн снова появляется в Германии»[114].
Еще раз: что делают русские и американцы в Германии в 1945 году? Спору нет, вопрос не принадлежит к разряду тех, которые могли бы возникнуть у философов и историков — за самоочевидностью ответа. Ибо что же, в самом деле, может быть очевиднее того, что русские и американцы (непримиримые по всем прочим пунктам) сошлись в Германии, чтобы спасти мир, цивилизацию и прогресс от немецкого варварства?. Этой утешительной очевидности следовало бы противопоставить иную очевидность, именно, что философы и историки, ученые мужи par excellence, меньше всего склонны к тому, чтобы замечать совершенно открытые, бросающиеся в глаза вещи! Если согласиться (вместе с Гёте и «против академиков»), что нет ничего труднее, чем видеть глазами то, что лежит перед глазами, то можно смело ставить сто против одного, что ученые мужи проглядят открытую тайну американско–русского присутствия в Германии в 1945 году.
Вопрос формулируется как в прямом, так и в косвенном смысле. Ибо не станем же мы всерьез полагать, что сегодняшним расхожим ответом, вроде вышеприведенного, будут в обозримом будущем довольствоваться столь же легкомысленно, как это делают вот уже с полвека?! Можно было бы, во избежание курьеза за сплошными букашками не увидеть слона, убедиться в этом, поместив означенный вопрос в исторический дистиллятор и осмыслив его на исторических аналогиях. Итак, вместо того чтобы рубить сплеча, спрашивая: что делают русские и американцы в Германии в 1945 году? — позволительно профилактически отойти в сторону и отвлечь внимание к исторически изоморфным вопросам, как–то: что делают римляне в Греции примерно в 146 году? Или: что делают германцы в Риме в 476‑м? Или еще: что делают христиане в Иерусалиме, скажем, в 1099‑м или 1229‑м? — Ничто не говорит о том, что сегодняшний ответ на эти вопросы совпадает с ответами, расхожими тогда. Нам нет никакого дела до ответов, которые в свое время давали римские, готские, христианские или какие угодно историки и идеологи.
Сегодня мы совсем в ином, чем тогда, смысле знаем или можем знать, что именно искали римляне в Греции или германцы в Риме или христиане в земле обетованной поверх иллюзий fable convenue, называемой историей. Историк знает, что во всех названных случаях речь шла о завоевателях, прокладывавших себе путь огнем и мечом; чего он не знает или не хочет знать, так это того, что завоевателей гнала в путь не только жажда завоевания, но и некая тоска. Мы скажем: в более глубоком, им самим неведомом смысле не как завоеватели шли они в поход, а как — паломники. Историки говорят о насилии, крови, алчности, опустошениях, и с полным правом; им не следовало бы, однако, упускать из виду и энтузиазм, круглые глаза, затаенное дыхание, Dieu le veult — открытость и готовность впитать в себя вещи, о которых бедные завоеватели у себя на родине и не смели бы мечтать[115].
Либеральным грекам, гораздым шуметь и митинговать перед такого рода контрапунктами, полезно было бы опознать уровень своей интеллигентности в том испанским короле, который посетовал однажды на непонятность мира, сказав, что, будь он Господом Богом, он сделал бы всё гораздо проще. — Безмерное чванство проскваживает во всем, что силится втиснуть историю в прокрустово ложе собственного тщедушного понимания. Что крестоносцы на своем пути в Иерусалим убивали и грабили — факт, значимость которого не станет оспаривать ни один продюссер киноиндустрии. Приди, однако, кому–нибудь в голову поставить этот факт во главу угла истории крестовых походов, он доказал бы этим только, что его чувство гуманности развито ровно настолько, насколько дегенерировано его чувство истории. Тыкающим друг друга с момента знакомства либералам пришлось бы, очевидно, больше по душе, если бы христианское войско сложило оружие в ожидании аналогичного жеста и от сарацин, но что за это была бы история, если устройством её занялись бы одни пацифисты и члены общества по защите прав животных! Объявил же недавно один репрезентативный японоамериканец — очевидно, вдохновляясь несокрушимостью обоих хрустальных дворцов нью–йоркского Манхэттена — the end of history! Раньше, среди студентчины из поколения 68‑го, это называлось: make love, not war; ввиду взбесившейся нынче агрессивности этих господ, ставших тем временем интеллектуалами и политиками, можно было бы допустить, что их интерес к войнам определен единственно их неспособностью заниматься любовью. Пишущему эти строки хочется надеяться, что из каждых тринадцати прочитавших их читателей не каждый тринадцатый объявит его апологетом войны, что значит: не каждый тринадцатый побагровеет от возмущения, прочитав, что на войне, если уж пришла война, пристало всё- таки не отнимать у Господа Бога время, а с Божьей помощью воевать.
Если война — это болезнь, то пацифизм, как протест против войны, столь же нелеп, как протест больного против своей болезни; против болезни не протестуют, её принимают, как судьбу, и лечатся от неё, что значит: учатся с нею жить. Воевать значит: убивать и быть самому убитым; плохая война — это когда стреляют, стараясь во что бы то ни стало не попасть (совсем под стать пацифистским простофилям, тоже всегда старающимся во что бы то ни стало не попасть словами). Пацифизму впору встать на голову, всё равно: пыл его выдыхается уже со следующим поколением. Никто не шумит сегодня об убитых во время Кромвеля или Наполеона. Чем дальше ужасы войны отодвигаются в прошедшее, тем меньше шумят о них, тем вернее может быть взор направлен на существенное. — Мы видим, что во всех упомянутых выше исторических аналогиях дело идет о чем–то более основательном, чем это явствует из плоско позитивистского подхода. Римляне в Афинах, германцы в Риме, христиане в Иерусалиме: не завоевывали ли они, чтобы — быть завоеванными? Будем помнить, речь идет о временах, когда культура завоевываемой страны начинает агонизировать, готовая каждое мгновение испустить дух. Тогда и обрушивается на нее орда юных, дышащих силой наследников, чтобы припасть к её пульсу и перенять его биение.
Римский солдат, заносящий меч над Архимедом, действует в топике войны, но и над войной есть иная топика, скажем, классическая филология, в угоду которой эта смерть (noli turbare circulos meos) позднее попадает во все учебники и бревиарии гимназической Европы. Можно увидеть, что действительный субъект этого убийства — разбойный город Рим, одержимый страстью научиться по–гречески мыслить и чувствовать. Когда позднее часы Рима бьют в последний раз и сверхмощный монстр лежит при издыхании, сценарий никак не выходит за рамки все того же «убийства Архимеда», на сей раз, однако, рукой германца. Аналогии заостряются дальше, вплоть до 1945 года: подобно тому как римские легионы завоевывают Грецию, чтобы заполучить крохи со стола греческого симпосиона; подобно тому как белокурые бестии германских лесов набрасываются на Рим, чтобы — поверх всяческих vae victis — принять в себя импульс Христа, так и в обетованную Ал- леманию тянутся с дикого Запада и дикого Востока ковбои и скифы, чтобы, по утолении солдатских инстинктов, воспринять всё тот же импульс, на этот раз, впрочем, в абсолютно новой и неслыханной форме.
Некая своеобразная карма бросается в глаза там, где, вопреки вещуну–пересмешнику Гейне, не львы в далеких пустынях Африки, а всего лишь новонемецкие философы поджимают хвосты и вползают в свои конгрессы. Им не хватало мужества осмыслить случившееся — уже в первом приближении — как историю двух Франкенштейнов, пожирающих с Востока и Запада своего творца.