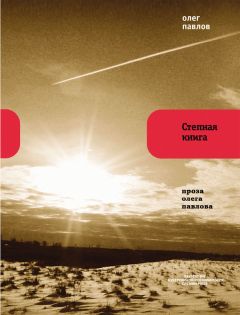Олег Павлов - Гефсиманское время (сборник)
Трагедия бесправия и затравленности человека – по сути трагедия рабства, когда человек не принадлежит сам себе и жизнь его сжевывается без вести в той рабской армии как рабсила, оказалась с помощью лжи обращенной в криминальную хронику, телевизионный триллер и эдакое уже-то массовое и зрелище, и судилище: общество против беглого солдата Романа Минина!
Однако неслыханная огласка, когда достоянием общественности стала даже личная переписка, неизвестно каким образом добытая, ведь писал отец солдата, а получателем был – не генерал же бригадный Зеньков, окончилась вовсе не вынесением приговора. Все обнаруженные за три дня факты повисли в воздухе от одного только явления живого Романа Минина, при первом же взгляде в сторону газетных репортеров и телевизионных камер тех живых затравленных солдатских глаз. Милиция взяла его спящим на чердаке заброшенного дома, где дезертира приютили и скрывали сознательно бомжи. Если верить газетным сообщениям, то один из бомжей и продал беглого солдата милиции – за сорок тысяч рублей. Сами репортеры сознавались, что испытали при виде Романа Минина шок и потрясение, видя не маньяка и т. п., а затравленного, ничего не понимающего тщедушного паренька. Так обнаружилось, что Роман Минин не помешанный и жаждущий крови преступный тип, а жертва преступления, рутинной казарменной преступности.
Теперь, когда со слов рядового Романа Минина известно, что он бежал из части от побоев и поборов, дело его обретает давно привычный поворот, но становится закрытым для слуха и глаз. Иначе сказать, мы больше ничего не узнаем об этом солдате. Факел живой – вспыхнул и погас.
Длительное тюремное заключение должно покарать Романа Минина если не за дезертирство, то за кражу оружия и за пенсионера Астахова, которого он легко ранил по случайности, но и по той же случайности, в завязавшейся борьбе, мог убить. Хоть Роман Минин и бежал, но уже за воротами части бежать было ему некуда. Он отсиживался остаток ночи в подъезде первого попавшегося дома. В одиннадцать часов утра на солдата с автоматом наткнулся пенсионер Астахов, да и только потому, что выносил мусорное ведро. Астахов спросил солдата, что он тут делает. Солдат испугался – наставил на пенсионера автомат, но тот не попятился, а устремился обезоруживать дезертира, оставляя Роману Минину, о котором ничего-то не знал, только одно такое же инстинктивное движение – стрелять. И что тогда, стреляя вслепую в невинного Астахова, солдат и сам был жертвой, нацеленной-то на выстрел той силой, что мучила его в части и сорвала из караулки в бега, – этого в уголовный кодекс не уложишь.
Солдат не готовил побега и не был выродком в примерной бригаде охраны, как это внушал в своих показаниях прессе бригадный генерал Зеньков. Среда этого армейского подразделения была преступной, и все факты, приведенные генералом Зеньковым на срочно собранном «брифинге» в стенах казармы и на пресс-конференции постыдной в Минобороне, сами-то себя разоблачают.
Факт, что рядовой Роман Минин по результатам тестирования попал в группу солдат, которым можно давать оружие в руки только в крайних случаях, действительно говорит о многом. Солдаты такой «группы» в караульных подразделениях становятся сразу же чем-то вроде служек: их службой становится – тазик с тряпкой и т. п. Пять месяцев такой службы, когда Роману Минину то и дело «не доверяли» автомат, значили для него только унижение и прозябание, но нужны ведь в бригаде не только примерные караульные – а еще и такая вот второсортица, рабсила. Факт, что Роман Минин пытался поднять свой авторитет в бригаде рассказами о «крутой» жизни на гражданке (надо понимать – бандитско-рэкетирской), как раз и доказывает преступность отношений в бригаде. Этими разговорами тщедушный Роман Минин не пугал сослуживцев, а только и пытался дорасти до их «крутого авторитета». Он пытался стать своим в рэкетирской среде бригады, ведь первое его показание после поимки – что вымогали деньги; что не мог рассчитаться с долгом, который накопился после того, как три раза «бесплатно» сходил в увольнительную, то есть не заплатил положенную в бригаде дань.
Кто не приносил, возвращался в казарму с прогулки по московским улицам с пустыми руками – тех били, заставляя не иначе-то попрошайничать или воровать. Докладывая прессе о борьбе с неуставными отношениями, но и желая подчеркнуть ничтожность «очага», бригадный генерал обнародовал цифры: по факту неуставных отношений возбуждено-де тридцать дел. Но в какую статистику превращается это число? Зеньков нам поведал о тех, кого покарали: тридцать дел – это тридцать «крутых» солдат, которые поймались, а сколько не в карцерах сидят, а гуляют на свободе, кто-то ж вымогал деньги у Романа Минина в стенах казармы, неподвластный этой генеральской парадной отчетности? Ну а сколько Мининых у них в жертвах? Ясно, что таких опущенных солдат и жертв куда больше, чем их мучителей. На тридцать «крутых» солдат в бригаде у генерала Зенькова должно быть и вдвое больше оскорбленных да униженных.
Роман Минин продержался в бригаде пять месяцев. На большее у него не хватило терпения и сил, да и скопились-то неоплатные долги, накрепко и безысходно попал в кабалу. Факт, что он выспрашивал у сослуживцев, какой срок могут дать за дезертирство, доказывает не подготовку его к побегу, а то безысходное одинокое состояние, в котором он оказался, если только сослуживцев его не подучили перед камерами наврать. Почему не было у Романа Минина другого выхода, выбора? И на этот вопрос дает нам яснейший ответ все тот же генерал бригадный Зеньков. Что ждало Романа Минина, обратись он к вышестоящему своему начальству? Что сделал бы генерал, узнай он о поборах и побоях, царящих в бригаде? А какие выводы сделаны были на пресс-конференции в Минобороне? Один-единственный, что рядовой Роман Минин – недоразвитый, то есть, если буквально понимать, дебил, который в армию попал служить по врачебной ошибке, недосмотру военкоматов. Круговую поруку, заговор преступный молчания также продемонстрировал нам наглядно сам генерал Зеньков, когда солдаты заученно твердили журналистам под его присмотром, как хорошо им и дружно живется в бригаде, – такие показания дадут они и в суде.
Роман Минин виноват, что не застрелился, заполучив в руки автомат. Но и другим, даже тем, кто мучил его, он не желал смерти все потому же, что и сам не умереть хотел, а жить. Он понадеялся сбежать, прихватывая автомат на продажу вместо того, чтоб устроить бойню кровавую в карауле, каким способом сводили счеты с жизнью до него уже многие затравленные, отчаявшиеся солдаты. В ночь его побега в карауле не было ни одного офицера. Начальник караула – не офицер, а сержант, которому на все наплевать. В ночь побега все спят, так что никем не замеченный, не остановленный, Роман Минин оставляет пост, нагружается автоматом с шестью полными подсумками, минует призраком контрольно-пропускной пункт… А кто же нес службу, был ли хоть кто-то, кто не спал в карауле? Да, был – Роман Минин, отстоявший к исходу ночи уже три смены, не иначе-то «один за всех». Девять часов без сна, то есть целиком бессонная ночь. А наутро он должен был опять служить, не спать. Сутки подряд без сна – что это, если не пытка, о которой знали, в которой участвовали все в элитной бригаде, кто преспокойно в ту ночь спал, включая и генерала Зенькова.
Дело Романа Минина – как огромной силы взрыв. Годы 70-е, в кромешной безвыходной глухоте которых и достигло насилие в армии такой ожесточенности, однако, давно миновали и остались вовсе без осознания. Первый раз эта сила боли и гнева вырвалась наружу, в общество, в конце 80-х годов, когда солдат внутренних войск, литовец по национальности, расстрелял по пути следования в заквагоне весь караул, а впоследствии был признан невменяемым, то есть почти оправдан, что было непостижимо для того времени, такое милосердие иезуитское власти.
Этот случай, только один из многих, стал своего рода детонатором: о нем написали, сняли, кажется, документальный фильм, а потом и художественный. Железный занавес армейский обрушился. Как некогда узнавали правду о сталинских репрессиях, с таким же потрясением советское общество открывало для себя правду о ГУЛаге армейском. Поляковым зачитывались, как и Рыбаковым. Но ситуация в армии взорвана была в конце 80-х не столько гласностью, сколько отменой брежневских военных кафедр и льгот от армии для студентов. В армию поголовно погнали детей совслужащих, интеллигенцию во втором поколении. Пареньки из простонародья, рабочие да колхозники, мучились-то безгласно, только и умели, что мычать глухо от боли, привычные к мордобою. Образованная городская молодежь стала в армейских условиях неслыханно страдать да вымирать, вопить, и что самое важное – сообщать обществу правду, а снаружи – росло волнение и возмущение интеллигенции, чьи это были дети. Невменяемость стала на несколько лет своего рода разрешением дезертирского вопроса, а это и был главный вопрос для интеллигенции в армии – получили возможность негласную бежать. Планы по призыву тогда еще выполнялись, и дезертиров не судили, а списывали чаще всего с психическим диагнозом, ставя им шизофрению и т. п., как только доказывались факты, что солдат был жертвой неуставного насилия. После развала страны, в новоявленной российской армии дезертирство стало уже массовым явлением. Служба в армии стала походить на детский сад – за солдатами приезжали родители и сами их забирали из частей. Дезертиров почти не судили. Стоило явиться с повинной – и большинству давали право служить в новых частях.