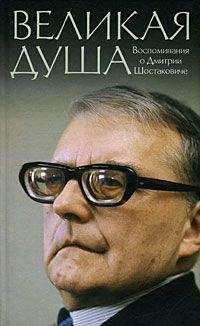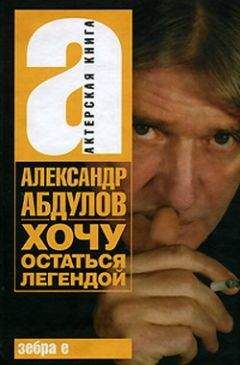Олег Павлов - Метафизика русской прозы

Обзор книги Олег Павлов - Метафизика русской прозы
Павлов Олег
Метафизика русской прозы
Олег Павлов
МЕТАФИЗИКА РУССКОЙ ПРОЗЫ
Вопросы литературы безвременья
О необходимости модернистской прививки, то есть обновления, дабы осовременить "русский дичок", говорить начали еще в шестидесятых годах. Тогда действительно складывалось в литературе новое пространство двух художественных мировоззрений. Сошлись писательские судьбы, обладавшие различным жизненным, духовным опытом. Общим же было время - и необходимость восстановления доверия к литературе, то есть необходимость самосознания. Одним из главных стало требование всей правды. Эту правду выстрадали в лагерных, военных, крестьянских мучениях. Она обладала огромной духовной силой. Она сделалась достоянием литературы, но не столько как исторический документ, сколько как новая образующая художественного строя - новое мировоззрение. Правда новой реалистической прозы была бунтом. Но от несогласия с жизнью уходят не только в бунт - уходят и в мечту. Собственно, в том состояло краткое послабление после разоблачения Сталина, что о свободе стало возможным мечтать.
Наше западничество всегда было от мечты, а мечта - от произвола. От Герцена до самой революции западники наши жаждали равенства и обновления. Но если дореволюционные "грезеры" мечтали о царстве равенства, то обновленцы шестидесятых грезили неравенством и свободой от каких бы то ни было идеологий; тяготели к западной культуре, к западному художественному опыту, но не на том основании, что были глубоко с ними знакомы,- то были только знаки, символы чего-то нового. Поэтому в литературном обновлении шестидесятых, у самих обновленцев, не было выношенного глубокого смысла, а только маска фантазии. И каковы бы ни были потом ее пестрые модернистские краски, однако их не хватало, чтобы скрыть пустоту. Пустота поглотила талант Гладилина. Поглотила и половину одного из лучших романов Василия Аксенова "Ожог". И это те, на кого в шестидесятых годах возлагались особые надежды, кого считали зачинателями новой литературной эпохи!
Мечта без бунта привела в подполье целое поколение, у которого не оказалось своих правды, веры, убеждений. Бунтом не могут быть нигилизм и безверие, а именно они и завелись, как гнильца, в литературном подполье: в апокалипсисе семидесятых годов, после "пражской весны", с судебными расправами над литературой, с новыми гонениями, произволом и совсем уж беспросветным мраком "общественного состояния" была утрачена не столько социальная вера, уже избывшая себя после разоблачения сталинских злодеяний, сколько духовная - сама потребность в вере.
Плодом этого безверия, безвременья и стала ироническая литература. Она никогда в художественном отношении не была явлением цельным. Постмодернистские устремления в иронической литературе существуют наравне с реалистическими, а принадлежность к той или иной художественной концепции далека от самого творчества. Для этой литературы формообразующими свойствами обладает сама ирония, которая все, что есть высокого в человеке и в искусстве, разрушает, потому что иначе ей не на чем и нечем существовать. Разрушение - это ее единственное топливо. Сжигается же то, что уже создано чьей-то творческой волей, и в этом смысле не создается ничего собственно нового. Само горение и продукты горения имеют необычайный художественный вид, о котором можно сказать: это все, что осталось от того-то или того-то.
Но продукт сгорания не сделаешь топливом для эволюции литературы, назначение иронии в которой разве что хищническое - пожрать все сколько-нибудь ослабшее, захватить все худо лежащее. Все, что годится на растопку! Поэтому и существует ироническая литература под разными видами на жительство.
Под видом якобы реалистической: от Петрушевской и Валерия Попова до Юрия Козлова и Александра Бородыни. Под вывеской постмодернистской: от подзабытых Татьяны Толстой, Вячеслава Пьецуха до новейших Виктора Пелевина и Юрия Буйды. Однако художественный строй и в том, и в другом случае формирует пародия - пародия как принцип, как прием, как идея. Ей все подвластно, ей все годится. Но есть и излюбленные предметы, например, трагико-романтический пафос, штампы соцреализма, цитаты из русской классики. В процессе пожирания все эти предметы превращаются в анекдот - исторический, бытовой, философский, геополитический.
Основа классическая анекдота - небывальщина, фантасмагорическое превращение из серьезного в смешное. Анекдоты же иронической литературы усиливают в себе и другой элемент небывальщины, его-то и делая, по сути, новым,- оглупление жизни, что есть следствие внутреннего личного бессилия перед ней. Поэтому ложь и зло, сделавшись смешными, не перестают быть, становясь уже родом художественной энергии. Ирония лишается лирического своего начала, то есть лишается собственно смешного. Остается злая усмешка над самим человеком, цинизм, извращающий до неправдоподобия человеческое существо. Фантасмагория иронического свойства - это не только метаморфоза смешного и метаморфоза зла. Это еще и поэтизация насилия, произвола, которым живет заточенная в подполье мечта. Плен, бессилие - в жизни действительной и иллюзия свободы - в той, которую воображаешь.
Ирония - это произведение в произведении, одно из которых принадлежит перу самого Героя иронической литературы, этого "человека из подполья". Герой подполья с существующим миропорядком не согласен, но идти против него из-за бессилия не может. Это бессилие и становится его развлечением, развращающим душу и ум. Да, он страдает и разоблачает приносящий страдание мир, однако низость чувств, безверие лишают эти его страдания смысла. Разоблачение мира оказывается разоблачением самого себя. Потаенная извращенная умственная свобода оказывается не свободой духа, а пороком.
Идеи обновления являются, усиливаются в отсутствие истинного пространства и масштаба литературы, как бы в отсутствие духа и смысла, с утратой веры, исторической памяти, основания. Но разве не достаточно революции, сталинского геноцида, войн, разве мало было у нас общих всем мучений, чтобы почувствовать себя русскими людьми? Страдание, если оно одно на всех, обостряет национальное самосознание, усиливает в народе именно общее, то есть национальные черты. Страдальческий опыт - вот что фундаментирует и питает наши национальные чувства. Мы обособились от мира, загородились от него своим страдальческим опытом. Литература же делит страдания со своим народом, наполняется его чертами, как бы воспалены они ни были. Социальные, общественные противоречия - это лишь поверхность неустроенности духовной. Она и есть настоящая национальная болезнь, постичь которую возможно, лишь проникнув в глубину народной души. Сказать, что опыт современный человеческий страшен,- значит ничего не сказать. Мы давно и незаметно перешагнули границу зла, за которой начало нового испытания, искупление содеянного. Но как цинизм совсем обесчеловечил ироническую литературу, так жестокость обезобразила современную реалистическую прозу. И она тоже становится бесчеловечной. Одни презрительно отказались от бытописания - и пишут бесчеловечно, потому что совесть свободному искусству не судья. Другие, под маской реалистической, с тем же презрительным неверием отвернулись от красоты и правды добра в человеке, потому что без них жестокость и делается художественно достоверней.
Русская же литература всегда жила тем, что писательство понималось как долг нравственный. Сначала воспамятование - правда, проникнутая историзмом. Затем движение - к правде социальной с ее напряжением страстей человеческих и судеб. После того все повороты и изгибы раскованны. Правда возжигает свет в человеке, в его бытии, которое делается поэтому осмысленным, но не хватает малого. В этом малом - вечное борение человека. Рано или поздно, но требование правды превращается в такую же творческую потребность познания, постижения уже чего-то большего - Истины. Усталость межвременья проходит. Безмыслие и сосредоточенность литературы на самой себе возможны только как недолгая передышка. Потребность познания намного сильней и человечней.
Современное художественное самосознание
В лозунге "новой жизни - новое искусство", хоть он звучал и еще может прозвучать не раз, по правде, нет ничего, кроме бунтарского обаяния. Анархизмы потому и звучат так громко, что в искусстве есть истинный порядок. Литература неустанно обновляется, но в этом обновлении нет ни революционности, ни надрыва. Сила художественного приема заключается в его неповторимости, которую он утрачивает, если пускается в литературный оборот. Именно это обстоятельство и питает творчество, требуя открывать совершенно неожиданные возможности. Являясь же по своей природе чисто творческим, вопрос о новой литературе, таким образом, никогда и не перестает быть насущным, оглавляя одну за одной вехи литературного движения. Путем художественной эволюции, то есть путем обновления, в будущее продолжается не что иное, как национальная художественная традиция.