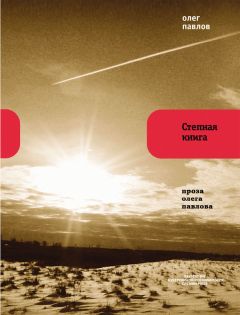Олег Павлов - Гефсиманское время (сборник)
Событие из современной жизни. Все происходило зимой в одной заурядной московской больнице. Привезли бомжиху, с узнаваемым возрастом, лет сорока. Была босая. Думаю, попасть в больницу надо было ей больше жизни. Таково было ее состояние – человека, который соскальзывает по смертному ледку. Вменялось ей врачами «скорой» обморожение конечностей, те сообщили еще, что бомжиха весь день ползала в скверике Киевского вокзала на карачках, не могла встать – люди это видели, подтверждали.
Врачи же в больнице, как только уехала «скорая», тут же бомжиху снарядили прочь. И так еще обставили, что оформили ее как отказчицу, что бывает, когда человек отказывается от госпитализации и решает болеть дома. И про нее говорить стали, играя, что ли: «Выводите ее, она не будет ложиться, она хочет домой». Ее с ходу еще завезли на каталке в душевую, сразу на санобработку упрятали. Но когда решилось, что выставят прочь, то никто не захотел даже заглянуть в душевую, брезгуя даже ее и выставить.
Старшая медсестра только сказала, чтоб ей дали тряпок на обмотки для босых ног. Тряпок ей кинули, но и с охотой позабыли, что она есть. Расшевелились только тогда, когда обнаружилось, что бомжиха втихомолку, затягивая время, в душевой разделась, и усилилась даже в коридоре приемного вонь. Тут стали суетиться, как ее скорей спровадить, и, с порога душевой заглядывая, стали ее пугать, чтобы одевалась и уходила прочь. И как же было ей страшно – очутиться наконец в тепле, понадеяться на помывку, на жрачку, на покой, но с порога уходить неизвестно куда, ведь тут не Киевский даже, а все равно что смертная пропасть – такая от вокзальной спасительной их норы даль. Здесь уж не выживешь и одной ночи. Морозец и так был, а тут еще объявили по радио, что ночью будет минус тридцать. И в бесчувственном, полуживом, голодом мозгу явилась ей мысль вымочить свое тряпье. Понадеялась, что в сыром на мороз-то не выгонят. И когда застали ее за этой постирушкой, то обозлились вконец. Распахнули все окна в душевой, уже как бы выставив ее на мороз, выкуривая из душевой холодом.
Она еще цеплялась за туалет, что хочет по нужде – это их обреченная безысходная хитрость. Говорит, я же человек, куда же мне нужду справлять. И тут все кругом как озверели: человек?! человек?! Тот беспощадный напор, ор почти нечеловеческий и был ей приговором, только тогда она, кажется, и осознала, что места ей здесь нету и что наступил конец.
Все сырое тряпье, которое не имела сил даже толком выжать, долго и мучительно напяливала – одеванье ей давалось совсем тяжко. На обмотки никаких сил ей уже не хватило – и по стеночке поползла. Но охранники ей запретили стенки лапать и она уж выходила бочком, как по карнизу. Даже когда наружу выбралась, запрещали о стену больничную опираться, чтобы не замарала. Еще хотели проверить на ней перцовую ударную смесь из баллончика, хотели в нее напоследок прыснуть и поглядеть, как будет действовать, но раздумали в конце концов мараться и дали выползти на мороз, только пригрозив, чтоб отползла подальше от больницы.
Это зверство обычной жизни каждый по-своему прожили обычные люди, но прежде того обернулось все зверством именно по воле обычных людей – оглохших и слепых. Что я знаю и что могу сказать, не устраивая ни над кем показного суда совести, – это что никто друг друга не смог возлюбить. Еще скажу, много раз потом видя эту картину перед глазами, что никто не привык к этому плохому – всем было тошно, плохо. Привыкает человек только к хорошему. Даже рецидивист ворует и убивает не потому, что привык к плохому, а потому, что ему неведомо хорошее. А это хорошее есть только одно – уважение себя и других, простодушие гордости человека. Никто не мог себя уважать – и потому сделалось это зверство, где все были участниками и все-то были жертвами, хоть опять же это дико и несправедливо может звучать. Не были русскими. Не были даже в этой комнатушке больничной не то что из одного народа, но и рода человеческого. И так вот – перестали уже быть и людьми. Уважать в себе и в другом возможно только человека, именно человека, то есть самое общее и одинаковое, что есть в каждом и без всяких различий, – человеческую жизнь.
Когда-то люди жили на Хитровке. Когда-то люди жили и в России. Были писатели и обыватели. Но теперь все не то и не так. Путь к счастью, путь из преисподней: излечить в человеке униженность, всеми способами, какие есть у общества, бороться со всеми способами унижения человека. Уважение – и есть доподлинное сострадание. Для русских оказалось это слишком легковесным, незначащим, – и теперь мы сполна ощутим, сколько весят и значат взамен идеальных вопросов о греховности и любви эти осмеянные, оскверненные слова о человеке, добытые со дна жизни, – но там, где не кончается и подыхает, а начинается, рождается из пьяни и рвани, греха и ненависти человек .
Казенный дом
На жизнь я зарабатывал охранником в больнице. Так получилось, что жизненные обстоятельства в разное время ставили меня, в сущности, на одно место – вертухая, вахтера, охранника, и я становился частью того, что самому сильней всего в этой жизни ненавистно и что по мне-то прокатывалось безжалостно катком.
Служба моя в этой больнице кончилась в первый же месяц увольнением. Я попал в съемку японского телевидения как литератор. Японцы снимали фильм о России, была там серия и о культурной жизни, понадобился им типаж молодого русского писателя, и в редакции «Нового мира», где опубликовался тогда мой роман, «Казенная сказка», посоветовали меня. Намаявшись за два года безденежья, за место в охране держаться я готов был зубами, такая вот получалась история. Японцам же хотелось снять меня, конечно, и на рабочем месте, в том был их бредовый сценарий, как они мне объяснили – русский писатель изучает в гуще народа жизнь. У больницы, в брошенном ларьке, жили бомжи, которых мы, охранники, то и дело гоняли, для порядка. Так вот японцы, все облазившие вокруг больницы в поисках натуры и раскопавшие этих бомжей, рисовали мне такой сценарий съемок: русский писатель, изучающий жизнь в шкуре охранника, то есть я, берет бутылку водки (водка за их счет – реквизит) и отправляется в гости к бомжам, распивает с ними бутылку и узнает правду о жизни. Я тогда-то начал выходить из образа, уперся – не пойду!
Японцы не верят – вы же, Павлов-сан, написали роман о народе… Слово «казенный» с русского языка не переводится, а начинаешь им объяснять – не понимают. Показываю на стену больничную, а сидим на вахте, на кипятильник и банку, где завариваем чай, на форму свою армейскую, на дубинку, – вот, говорю, это все казенное, бездушное, чужое. Но объяснить до конца и самому трудно, будто за волосы себя тащишь. В общем, сняли они меня, разочарованные, на фоне этой стены, в вахтерке, наговорил я им про русскую литературу, уехали, надо им было снимать в Сибири. А на следующий день кто-то донес главврачу больницы, что в больницу проникало иностранное телевидение и снимали в вахтерке какого-то охранника. Тот, испуганный до смерти, говорит, чтобы звали к нему охранника, меня. Кто я такой, я скрывал – и вот пришлось сознаться, что литератор, малость вот прославился, подрабатываю у него в больнице, а японцы ничего тут не снимали другого, а только меня на фоне стены. Думал, врач, человек образованный, поймет, еще и зауважает. Он успокоился, но говорит мне, уже на «вы»: вы с завтрашнего дня уволены. Я обомлел. Ну, сняли меня, они даже в больницу не проходили, она же не государственная тайна, чтоб запрещено было ее стену снимать. Тот уже кричит: нет, государственная! А если покажут по ихнему телевидению! Я уж и стращал его, чем мог, что пожалуюсь японцам и они об этом в своем фильме расскажут, но вышвырнули из больницы на следующий день, отчего-то вовсе он не испугался.
Уволил меня хозяин нашей фирмы охранной, отставной офицер, который зависел от главврача подрядом, но сжалился все же в последний раз, трудоустроил в другую больницу. И усмехался надо мной по-доброму, что хоть я и писатель, но дурак, потому что все дело в деньгах: главврач простить мне не может, думая, что японцы заплатили мне доллары за съемки в больнице, а должны платить ему, он бы им все, чего бы ни захотели, разрешил.
Японцы нагрянули ко мне через неделю, прилетели из Сибири, надо было доснять. Когда же я им рассказал, что после их съемок свершилось, они даже не удивились. Стали жаловаться, как их тут в России все стараются ободрать да притесняют. Испугались, что и я теперь потребую с них вроде как возмещения ущерба, сказали, что если мне важно восстановить свою репутацию на работе, то они готовы написать, составить письмо в Минздрав и что его подпишут руководители их компании с просьбой, чтобы меня не наказывали.
История эта в фильм никак не попала, они не стали ее снимать, побоялись как бы лезть не в свои порядки. Все они знали, всему искусству жить у нас обучились, но про казенное они так и не поняли, что это такое. С тех пор я и вправду сжился со шкурой охранника, служил-то не месяц, а годы.