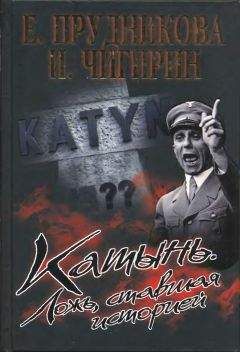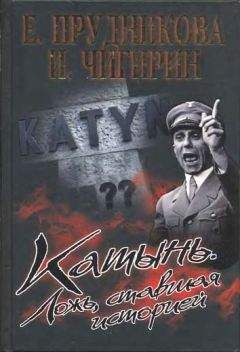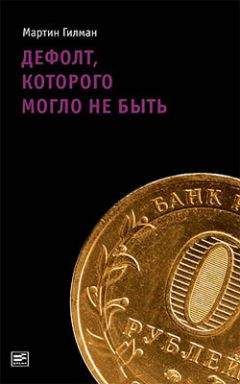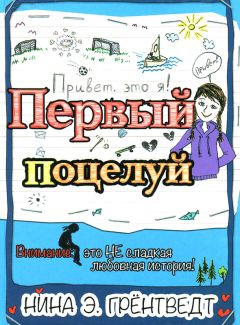Карен Свасьян - Европа. Два некролога
В перспективе номинализма из названного человека вытравляется всякая субъективность, после чего он обозначается как «трансцендентальный субъект», или логически общее «всех нас». Фатальным при этом оказывается, что господин Х или госпожа Y, случись им набрести на эту тему, с легкостью совращаются к выводу, что и они, будучи человеками, собственной персоной достигают высшей формы бытия. Переход от habeas corpus к habeas spiritus принадлежит, должно быть, к самоочевидностям описанной Максом Вебером этики протестантизма. Major: Человек достигает высшей формы бытия. Minor: Х и Y суть люди. Conclusio: Следовательно Х и Y обладают высшей формой бытия. — При всем напоре этого нескромного самообаяния буржуазии не следует исключать ортопедическую возможность имманентного, именно: христиански имманентного прочтения цитированного места. Мы скажем, что дух, если, конечно, иметь в виду не спиритические столоверчения, а эволюционно высшую ступень на лестнице происхождения видов, есть не общее понятие, а некое в буквальном смысле одухотворенное, до мозга костей пронизанное сознанием человеческое тело. Положение: человек, как дух, достигает высшей формы бытия, читается в этом свете не иначе, как с обязательной поправкой на ВОПЛОЩЕН- НОСТЬ: когда человек не просто логически мыслит дух, а биологически есть дух.
Когда- нибудь придется учиться распознавать христианскую мистерию не в богословском дадаизме, а в изломах мысли Дарвина и Геккеля; дух, становясь тем, что он от века есть, проходит лестницу воплощений и замирает (в дарвинизме) на ступени человек отнюдь не для того, чтобы скатиться вверх к переодетым богословам от логики и стать родовым понятием в голове логика, который способен лишь мыслить себя как человека, а не быть человеком. Против этой богословской реставрации понадобился гений Гёте; Гёте, предвосхитившему при жизни пути Дарвина, пришлось посмертно пролагать эти забредшие в тупик биологического материализма и оттого присвоенные спиритуалистическими призраками пути дальше — в перспективе расширяющегося до духовной науки естествознания. Только таким образом можно было избежать недостойной идентификации производящего совершеннейший мировой процесс мышления с неким анонимным логическим бастардом, под которого «демократически» подставляются затем какие угодно проходимцы. Совершенный мир есть откровение, и открывается в нем не мозговой призрак, а человек ВО ПЛОТИ.
Еще раз: самое поразительное в процитированном выше отрывке (порог, о который спотыкаются как антропософы, так и неантропософы) — это то, что означенный здесь человек оказывается не логической вытяжкой, а — речь идет об эпохе, поклоняющейся фактическому, — единственным, тем самым Единственным, которого провидел Штирнер и на котором сорвался в безумие Ницше. «Мне нет дела до того, что надо мной!» — на этом штирнеровском девизе старая логическая змея давится собственным хвостом.
Ибо не может же человек, производящий в мышлении наиболее совершенный мировой процесс, лишать этот процесс возможности быть, причем не милостью онтологического аргумента, а во всей полноте и ощутимости телесного! Кто трансцендирует свое творение и падает затем перед ним на колени, тот доказывает лишь, что он дорос до него только «в голове» или только «в сердце», оба раза раздельно, в то время как прочий экзистенциальный человек в нем относится к только головному или только сердечному человеку примерно так же, как смотрящийся в зеркало к смотрящему из зеркала. Философия экзистенциализма, неявно расцвечивающая духовный горизонт Запада с XIX столетия, могла бы осознать себя как бунт всего человека против тоталитаризма головы. Разве не о ВСЕМ ЧЕЛОВЕКЕ, не о фейербахианском родовом, а о штирнеровском вот этот вот, стенала вся послегегелевская тварь, как тьмы индийских Богов о Будде! Философия, застрявшая в материализме естествознания, достигла своих границ и встала перед жестким выбором: либо заложить свою аристотелевско–томистскую энтелехию позитивистическому нигилизму, либо упокоиться в старом теологическом мире. Но Summa theologiae в XIX веке не лежала уже в области возможного.
Судьба томистского Бога зависела теперь полностью от того, сможет ли гигантское и неискупленное наследие томизма быть отнято у мертвой догматики и оправдано как результат наблюдения по естественнонаучному методу[103]. Если бы умерший в 1274 году Фома решил вновь прийти к последней трети XIX века, ему пришлось бы делать ставку уже не на метафизические небылицы средиземноморской культурной традиции, а на Гёте и — Штирнера[104]. Это значит: Summa theologiae, после того как она была наново обретена в одном физическом теле (Гёте) в его соотнесенности с чувственно воспринимаемым миром[105], волит опознать себя отныне (в постгегельянце Штирнере) как Summa anthropologiae, на острие которой — «в свободном переживании духовной области»[106] — и возникает тогда вопрос: возможно ли, чтобы некто NN не падал на колени перед сотворенными им идеями, предварительно гипостазируя их в трансцендентные сущности, а противостоял им как господин?
В сформулированном вопросе нам открывается возможность события, против которого, с момента его появления, единым фронтом сплотились клерки–интеллектуалы всех стран. Надо помнить, что речь идет не о старых клерках времен Каиафы, а о новых, значительно поумневших и преподносящих событие не в жанре Passiones, а обезвреживая его с помощью более актуальных технологий, как–то клеветы или просто умолчания.
Ибо оставайся осуществленный в мышлении совершеннейший мировой процесс только достоянием единственного, можно было бы еще с грехом пополам свести концы с концами, скажем, причислив феномен к паранормальным фактам или попросту расценив его как курьез. Случаю, вошедшему тем временем в свои права, угодно было, однако, повернуть дело совершенно неожиданным образом. Все оговорки и уступки испарились в воздухе, когда единственный принял решение сложить свою трансцендентность, чтобы имманентно и воспитательно действовать среди своих человеческих братьев. Можно увидеть случившееся и через христианскую призму, и тогда это будет означать: некое единственное в своем роде человеческое сознание дарит себя развитию земли, подобно тому как за два тысячелетия до этого некое единственное в своем роде человеческое тело принесло себя в дар земной эволюции.
Эта новая Мистерия Голгофы воскресшего сознания Христа носит с начала ХХ века название АНТРОПОСОФИЯ. Если серьезные люди и по сей день отшатываются от этого технического обозначения, то не в последнюю очередь оттого, что антропософским клеркам удалось в десятилетиях до неузнаваемости обезобразить представляемое ими перед миром творение Рудольфа Штейнера. Как знать, может доступ к названной антропософии в гораздо большей степени открыт сегодня иному умному неан- тропософу, чем сектантоподобным дорнахским затворникам! Не может же мир быть настолько квадратным, а мы настолько одуренными, чтобы прицеплять центральное событие мира к какому–то термину, чей изуродованный в десятилетиях смысл способен лишь отталкивать нуждающихся в событии современников! Но умные современники должны будут испытать свой ум на умении отличать антропософию Рудольфа Штейнера от антропософии антропософов. Если ни о чем не подозревающим антропософам не любо браться за ум и на деле становиться антропософами, что ж, тогда становиться ими придется как раз умным неантропософам, при условии что их дружеская карма сподобит их однажды обжечься о смысл слов: «человек, как дух, достигает высшей формы бытия и создает в мышлении самый совершенный мировой процесс». Тогда они, возможно, не упустят шанс узнать антропософию не в кривом зеркале собственных представлений, а как она есть.
Скажем, через игольное ушко старого кантовского «как возможно?», в измерениях и не снившейся Канту и кантианцам интеллигенции. Как возможна антропософия? Нет сомнения, что человек (некто NN), достигший, как дух, высшей формы бытия, не может, будучи творением, не быть и творцом. Ибо над ним (перед ним) нет уже никакой другой инстанции, кроме него самого. Каждый следующий его шаг есть, поэтому, шаг в ничто и является в строжайшем смысле трансцендентным. Он действует не из необходимости конвенций и традиций, а из самого себя, из внутреннейшего и интимнейшего ядра своего существа, которое он безостаточно отдает в распоряжение всего, что не есть он сам. Его действия свободны, ибо не предписаны ничем, кроме его воли, при том, что воля его адекватна его мысли, а мысль — необходимости вещей. Он мыслит так, как он мыслит, не потому что это истинно, и он поступает так, как он поступает, не потому что «так надо», а это истинно и «так надо», потому что он так мыслит и так поступает.