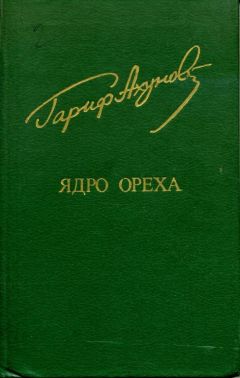Лев Аннинский - Ядро ореха. Распад ядра
Ближе всего стоял к Вл. Фирсову Дмитрий Блынский. И его отличало такое же светлое любование русской природой; «А бабье лето — с тихою прохладою, с веселой грустью молодых берез. Над плесом листья кружатся и, падая, как будто искры, поджигают плес…» Но вместе с тем в Блынском открывались уже иные грани этого характера. У него и выбор литературных учителей был не совсем такой, как у Фирсова: Фирсов шел от Есенина, Блынский предпослал своей первой книжке есенинский эпиграф, но звучали в ней не только есенинские интонации, но и кольцовская раздумчивость, и никитинские ритмы, и уже совершенно новые для деревенской поэтической традиции мотивы:
Зайди в село —
Спокойная душа
Нетронутой останется едва ли:
В моем селе не встретишь малыша —
Четыре года Бабы не рожали.
Блынский драматичнее Фирсова, его стих пронизан болью за людей, он видит корявую, «схожую с подошвою» ладонь своего героя, а в этой ладони — «капля весны» — лепесток… И это ощущение счастья, как бы вобравшего в себя горе, конечно, имело свои реальные жизненные основы: Фирсов — поэт Смоленщины, Блынский — поэт Орловщины; коренная, срединная Россия, трудовая и многотерпеливая, как та бабка Дарья, о которой писал Твардовский, вошла в их стихи вместе с горем прадедов и гордостью правнуков… В этом Блынский схож с Фирсовым. Однако психологический тип, отразившийся в стихах Блынского, обнаружил в сравнении с робким героем Фирсова некоторые новые черты, весьма многозначительные в дальнейшем развитии. Первый сборник Блынского — «Иду с полей» — открывается стихами о Литературном институте. Вслушайтесь в интонацию:
О стихах говорят в этом доме поэты.
Я у двери стою, не решаясь войти.
Где ты, смелость моя деревенская, где ты?
Шла со мною сюда, да отстала в пути…
О стихах говорят в этом доме поэты.
Я стучу. Я вхожу. Я обязан войти.
Это уже не тот фирсовский «мальчик смешной и курносый», который признавался в своей робости и не решался сам отворить калитку в жизнь. Герой Блынского еще робеет, но он уже хочет отделаться от своей деревенской робости, он проклинает ее, он стучится в дверь-Анатолий Поперечный открывает дверь властным толчком:
Мы глаза распахнули,
Настежь очи открыли,
Мы на землю не просто пришли.
Мы на землю пришли
От земли и от солнца,
А вернее всего— от земли.
Анатолии Поперечный и Владимир Цыбин — поэты совершенно иной стихии, чем Фирсов и Блынский. Разумеется, они и меж собой несхожи: раздумчиво-тяжеловесный, завороженный горечью и мощью старинных казачьих песен, медлительно-сильный Цыбин — и Поперечный, взвихренный, романтический, доходящий почти до экзальтации в степном гайдамацком разгуле. Объединяет их все та же отправная точка творчества — поэтизация земли.
Земля у Цыбина и Поперечного — не вешние березки Фирсо-ва и не горячие слезы обломанной черемухи у Блынского. Их земля — тяжелая, яростная, прокаленная и просоленная, какая-то тяжко-реальная… У Цыбина «куриным желтком цветет-выгорает сурепка, и, в колесах повыломав спицы, гудит сухая земля..» и садится «на шашки, на седла, на коней запотелых, мужскую слезу, как свечу, возле глаз потушив…». Ярость красок, бьющие в глаза цвета, густая и сочная пластика. Гроза качается на прогнутых облаках, солнце кругами спускается к земле. Цыбин видит мир через увеличительное стекло, где все заполнено ярким, где полутона и полутени отброшены. Природа оживает: густой огонь, встав на тонкие ноги, качаясь, гуляет по костру, и ему вместо дров — тяжелые руки, и щеки, и спины дают… Борьба с холодом — зримая, овеществленная борьба: «его напрасно вышибаем из жил, из горла кипятком, и давим на ступне носком, и в рукавах отогреваем…»
Поэты, вообще говоря, и без критиков прекрасно осознают свою творческую близость. В книжке Фирсова — стихи, посвященные Блынскому, посвященные Поперечному, посвященные Цыбину, в книжке Блынского — стихи, посвященные Фирсову. Книжку Фирсова редактирует Цыбин, книжку Цыбина восторженной рецензией встречает Поперечный. Он отмечает у Цыбина густоту, насыщенность образами, кое-где, по его мнению, даже чересчур плотную: «не продохнешь». Но почитаем самого Поперечного:
А наутро,
Под медленными лучами,
Мы будем
Меж лапчатых листьев искать
Ястребиными,
Хищно кривыми ножами
Солнцеглавый,
Черных кровей мускат.
Будем взваливать на корзинах
В машины,
Как барашков курчавых,
Носить на руках
Эти смуглые гроздья,
Эти лавины,
Солнцем откормленные в степях…
В этом чувственном, языческом смаковании красок ан. Поперечный более изыскан и, пожалуй, более литературен, чем Цыбин. Цыбинское образное напряжение (корчащиеся в чашках струи кумыса, закат, который валится навзничь в травы) у Поперечного переходит в чистое неистовство. Для Поперечного природа, мир — это стихия, мощные, неудержимые потоки, это бой быков в сочных луговинах, алая кровь винограда, горечь полыни и свинцово-тяжелая соль пота, это кони, которые не просто ходят, а в яругах топчут гадюк, это подсолнухи, которые пьют губами солнце, это половодье чувств, пир страстей, хмель степных кровей…
Цыбин и Поперечный идут, как мы видим, от иных поэтических традиций, чем Фирсов и Блынский. И уже не грустно-элегичный Есенин улавливается в их поэтическом дыхании — есенинские нотки если и звучат у них, то в ином, взвинченном ключе. А главный их поэтический учитель, конечно, Павел Васильев с его «удесятеренным мировосприятием». И любовь к земле издревле вырастает у молодых поэтов как бы на разных землях: если Фирсов и Блынский видят своих прадедов в горестных, выбеленных нищетой губерниях средней России, то Цыбин поет степное семиреченское казацкое раздолье, а Поперечный влюблен в густые ингульские ночи, в пьяные запахи жирных степей Южной Украины… Но при всех социально-исторических вариантах происхождения Фирсов и Блынский, Цыбин и Поперечный выразили один и тот же современный психологический тип; в оттенках мировосприятия поэтов, в их темпераменте — от робости у Фирсова до буйности у Поперечного — отпечатались конкретные варианты (а может быть, и стадии возмужания) этого реального героя. Реального! — потому-то и было то, что писали они, — поэзией…
Война запомнилась Фирсову жутким ветром, просвистывающим землянку, мякиной и жмыхами, плачем восьмерых голодных братьев, слезами, стывшими у рта, «когда мне говорили: «Сирота…» Выметенная войной земля, горечь, обида за свое разоренное детство, работа с малых лет, искалеченная деревня, что с трудом возвращалась к жизни вместе с твоей собственной обожженной душой… Реальность это? Реальность. Поэзия это? Поэзия. До какой черты?
До той неуловимой черты, пока духовные возможности личности еще не переросли узкого этого первого круга впечатлений, пока нравственная программа соответствует опыту, пока сохраняется единство, связь между правдой чувств и правдой пафоса. Но человек не может без конца оставаться в духовной колыбели: он растет, мужает, он жаждет масштабов и действий. Реальность, которая еще вчера была для него всем миром, сегодня становится ничтожной частью мира несравненно огромнейшего. Тут-то оказывается, что и весь твой жизненный, твой социальный опыт был, в сущности, исчезающе малой частью неведомой тебе жизни… Не каждый решится на умозрительный прыжок в незнаемое, на этот прыжок от самого себя (мы еще увидим, по каким параболам улетает поэт от правды, делая подобные прыжки); а иной человек в стремлении к цельности возвращается вспять, к своему первоначальному жизненному опыту; тут все реально: избы, рассветы, зеленый горизонт, за которым — известно что — там деревня Египет с такими же солеными грибами, там войны, которые невесть откуда обрушиваются на Ивана («По чьей вине на каждого Ивана по войне?» — с болью вырвалось у Фирсова), там — непонятные города, а здесь — моя родная деревня…
Реальность это?
Нет!
Потому что возможности героя уже переросли ее. И при всей ощутимости тесаных крылец, медных самоваров и «копытных такси», в круг которых заталкивает себя герой, все это — выдуманная реальность, выдуманная заново в качестве программы, выдуманная затем, чтобы с ее помощью низвергнуть другую выдумку; царство неонов и нейлонов, «параболы» и «саксофонов», неведомых Фирсову «Дега и Пикассо» и вообще всего ему неведомого.
Неважно, в сущности, какая здесь будет крайность; сельская или городская — и какие тут будут треугольники: треугольники изб или треугольники груш, — поэзия страдает не от программ, а от разобщения программ с опытом.