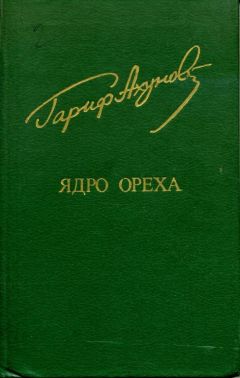Лев Аннинский - Ядро ореха. Распад ядра
Неважно, в сущности, какая здесь будет крайность; сельская или городская — и какие тут будут треугольники: треугольники изб или треугольники груш, — поэзия страдает не от программ, а от разобщения программ с опытом.
Посмотрим, что же происходит с поэзией.
Начнем с исходного пункта: земля, природа. Вдумаемся в пейзажи. У Фирсова все — тишина. «Не шелохнется ива, хотя продрогла, стоя над ручьем… Лес умирает гордо и красиво, уверенный в бессмертии своем».
Что здесь главное? Ощущение покоя.
Достаточно вспомнить того же Вознесенского, чтобы уловить по контрасту главную черту фирсовской картины. Вознесенский — даже там, где он изображает бегство из города на лоно природы, — нигде не обнаруживает такого тонкого и внимательного любования натурой. Он спешит: «Я счастлив, что я русский, так вижу, так живу. Я воздух, как краюшку морозную, жую. Весна рыжеет кручей. Весна берет рубеж…» Вознесенский не улавливает деталей, он видит в природе свежесть и движение, природа — рубеж, старт, будущее. Даже срубленная к Новому году елка — «вся в будущем, как в бусах, и иглы на губах!».
А вот новогодняя елка у Фирсова:
Стройная,
С иголочки одета.
О судьбе украдкою вздохнет:
Не дождется,
Не увидит лета,
Новый год — ее последний год!
Пейзажное стихотворение у Фирсова, как правило, заваенршается минорной нотой: падают и седеют листья, кончается гроза, умирает лее, недвижно стоит в небе луна… Пейзаж замкнут, он как бы застыл на последней точке, он недвижен, природа неизменна…
Пейзаж Дм. Блынского динамичнее, но динамика словно бы затем и улавливается в природе поэтом, чтобы подчеркнуть: под этим торопливым изменением остается неизменным вечный лик земли.
Лишь напомнят о близкой осени
Улетающие журавли,
Смотришь — клены одежду сбросили,
Травы буйные полегли.
Вся природа спешит, торопкая,
Декабрю передать права…
И вдруг — стоп! — наше внимание переключается на ту единственную деталь, которая не подчиняется охватившему природу движению:
Но взгляни — на снегу, за тропкою,
Голубеет «рыскун-трава».
Вдумаемся теперь в буйные пейзажи ан. Поперечного:
О, жуть глухоманная ночи!
Сова на суку. И чадна,
В ее омутовые очи
Заманута злая луна…
Гублю, нахожу и теряю,
Аукаю, в травах зову,
О, жизнь, я тебя принимаю
Такою, как есть, наяву!
Не правда ли, что-то роднит эти водовороты и омуты с прочной уравновешенностью природы у Фирсова. Хотя внешне все у Поперечного движение, все борьба и сшибка. Послушайте:
«Косячная, стадная… гульевая кучнеет рыба…», «Сазан с сазаном, играя, дуреет, куканом бредит, собачий сын…», «Молодые глупые ерши жадно прут на Марьин перемет…» Природа у Поперечного не только мощна, буйна, просвечена живой, горячей кровью. Она слепа, исполнена нутряной, затуманенной, грубой силы…
У Цыбина она «непроходима, яростна, глуха», первозданно нетронута, космата, наполнена все той же первородной борьбой, где гибнет все слабое, а сильное кроваво пробивает себе дорогу:
И в оттепель последнюю сугробы
Растерзаны ручьями по земле,
Обходит чаще заяц чернотропы,
Отдавший шкуру белую зиме…
А возле пней испуганный сохатый
На цыпочках весь превратился в слух.
Здесь сосны, как медведицы, косматы
И чащи, как клыки, остры вокруг…
Поэт видит в мире то, что ему созвучно. Едва заметное в пейзажных стихах, это созвучие необычно проясняется, когда в поэзии появляется собственно лирический герой со всеми конкретными приметами и даже с подробно выясненным социальным происхождением.
Как правило, у каждого из поэтов, разбираемых нами, есть специальное стихотворение, где с гордостью перечислены поэтовы предки до четвертого-пятого колена: у Блынского родословная идет от орловских крестьян-бунтарей, у Фирсова — от смоленских, предки Цыбина — играющие силой и удалью нешутейные казаки, у Поперечного… Но дело ведь не во внешних приметах родословной: в этом смысле предки хороши и у Поперечного: чумаки, степные повстанцы, конармейцы… Дело, однако, в том, что берется на духовное вооружение. «Из рода в род мы крыласты бровями, из рода в род клешневаты руками, скуласты и яры из рода в род», — живописует свою родню Поперечный, и мы убеждаемся, что буйная, слепая сила природы в его стихах не случайна; в людях, которые противостоят этой силе, поэт открывает те же самые черты. И в поэтическом мире Поперечного, полном жгучих и яростных шквалов, в мире, где туманятся гиблой страсти бездумные ходы, эти герои с их степными повадками, кондовой силой, эти носители крутого закваса, жилистые, кряжистые, с солью в крови и ногами кривыми, как сабли, — вполне понятны. Но, отдавая дань творческой последовательности Поперечного, мы не должны забывать, что духовный мир его лирического героя достаточно ограничен.
В лирическом герое Вл. Цыбина, каким встает он из первых сборников, нет такой изощренной ярости, он скорее угрюм, меланхоличен во гневе, но поначалу и он так же прочно верит в сокрушительность своих непосредственных эмоций и действий. Он «коренаст и крепок», он «угловатый — весь в родню». Деревенские парни в стихах Цыбина не просто мужают, набираются силы — они матереют. В поэме Поперечного у влюбленного комбайнера «руки грубы… норов крут». Поразительно, но, рисуя влюбленных парней, Цыбин тоже часто видит только руки: руки— как путы, как защита, как символ власти над невестой… Вот эта-то уверенность, сила, прочность героя и составляют внутреннюю суть его и внутреннюю тему стихов. Недаром ощущение прочности, незыблемости мира пронизывает у Цыбина все: солнце впаяно в неподвижное небо, от зноя птицы застыли в полете, вечно в цветах стоит багульник. Герой уверен в вечности природы, в прочности своего бытия, в своей абсолютной правоте:
«А где родилась — там сгодилась, и век стоять нам на земле!» Строки сделаны крепко, но… уберите обаяние цыбинского таланта — и вот уже менее талантливый поэтический собрат Цыбина разовьет эту мысль с жутковатой непосредственностью:
Крестьянин я. Люблю ответить веско,
Пощупать все, попробовать на зуб.
С противником всегда бываю резким,
С врагами беспощаден я и груб…
Богат надеждой, крепкими друзьями,
Огонь немалый буйствует в крови,
Держусь за землю цепкими корнями.
Не верится? Попробуй оторви!
Самоуверенный, выставивший локти, достигший всех совершенств герой Михаила Годенко — вот доведенное до пародийной остроты представление о положительности, когда оно отрывается от непосредственной правды судьбы, когда оно становится каноном, когда из него уходят живые соки поэзии. Заметим, что представление об отрицательности деревенеет в этом случае с такой же очевидностью, причем часто противник теряет всякие типологические черты, даже те «конкретно-исторические» нейлоны, в которых являлся он воображению Фирсова.
Вяч. Кузнецов, которого критик П. Выходцев справедливо ставит в один ряд с поэтами земли, поэт, близкий скорее к Фирсову, чем к Цыбину, хоть и не столь талантливый, как они, изобретает противника вообще без адреса. «И только рощица закончилась, как вдруг, попав под колесо, гадюка дернулась, закорчилась, свиваясь в кольца, как лассо…» Хорошее слово это в русском языке — гадюка! Сказал — и все ясно. Можно приступать к делу: «Она еще шипела яростно… С повадкой хищников знаком, ее прикончил я безжалостно армейским крепким сапогом».
Воистину, если бы даже не было гадюки, ее надо было бы выдумать. Гадюка у Вяч. Кузнецова — это не тот божий выползок viperusberusиз семейства канальчатозубых, которого сажают под стекло в зоопарке, это — готовый абстрактный поэтический символ, призванный в стихи лишь затем, чтобы наш герой мог получше растоптать противника своими крепкими сапогами.
Это, кстати, все та же проблема цели и средств — современная поэзия часто задумывается над нею. «Добро должно быть с кулаками»— едва эта фраза вырвалась у Михаила Светлова, как два молодых его собрата — Ст. Куняев и Е. Евтушенко — написали стихи, раскрученные из этой фразы. Оба старательно ставили акцент на цели, на добре. Я не касаюсь качества этих стихов, они тоже достаточно абстрактны: гимны отвлеченным целям убеждают меня не больше, чем гимны отвлеченным средствам. Но любопытны здесь намерения: ведь поэты земли акцентируют как раз на средствах. Если у Цыбина лирический герой еще колеблется, услыша от своего деда добрый совет: «С заворотом лупи в висок!» — то герой Поперечного действует без промедлений: «Может быть, у меня от отца — бить в сопатку сплеча и вразрез». Стихи, конечно, не анкета, здесь свои законы. Разные поэты пишут о добре с кулаками; у одних запоминаешь туманное добро, у других — реальную рубку с потягом, хлещущую бычью кровь, раскровяненную сопатку и т. п. Не хочу судить, что лучше. По-моему, и то и другое плохо. Туманны дали неспроста оборачиваются такой свирепостью: ни там, ни тут нет меры, — нет ощущения личности.