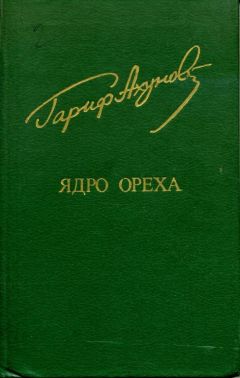Гариф Ахунов - Ядро ореха

Обзор книги Гариф Ахунов - Ядро ореха
Ядро ореха
КЛАД
Роман
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
1951. Лето.
B июньский жаркий месяц нежданная беда стукнулась по-хозяйски в ворота старого дома Кубашей...
Был тихий, напоенный зноем дня, но уже приятный своей угадывающейся прохладою летний вечер; большое солнце, словно нехотя, опускалось за гору Загфыран, окрашивая в прозрачный багряный свет все еще пронзительно-голубое наверху, высокое небо.
Старая Юзликай, прикрывая рукой побаливающие от яркого света глаза, долго вглядывалась в заходящее солнце, в оплеснутую алым закатом густую урему Зая, вдыхала солодовый шорох зреющих хлебов, терпкий аромат луговых трав, — вплетаясь в струи холодеющего воздуха, шли эти запахи широким потоком, бесконечно волновали ее.
Из дальнего, не затоптанного скотиной уголка двора, где негусто и невысоко поднялся кирказон, пахло яблоками, кружил по изгороди неизвестно кем и когда посеянный, лютый до жизни, неприхотливый хмель, и, глядя на эти травы, на закатное багровое солнце, почуяла вдруг старая Юзликай свои неисчислимые лета, и щемяще-грустно сделалось у нее на душе. Она неторопливо опустила руку, перехватила поудобнее кривую можжевеловую палку и побрела к роднику... Встревоженно зашаркали изношенные войлочные боты, но родник — вот он, у подножия холма, совсем недалеко от их сада.
Старая Юзликай опустилась на помятые вальками деревенских баб посеревшие мостки, долго непослушными пальцами заправляла концы платка за уши. Плеснуть бы, как прежде, скоро и беспечно, горсть прохлады на горячее лицо, омыть румяные пылающие щеки... но где оно, то юное время, помните ли вы его, торопливые воды?
Чист и звонок голос древнего родника. Только на памяти старой Юзликай «лечили» его раз девять ли, десять — много... Меняли истлевший желоб, освобождали устье от песка и камней весенних паводков, и с новой надеждой и силою били тогда донные родниковые ключи. Спеша донести вековые воды студеному Заю, струился родник извивчатым, нелегким путем, пробил в теле земли замысловатое русло, а близ него, на страх домашней, ненаходчивой птице, буйно разрослись высокие травы: саблистая осока, стройный камыш, да еще до одурения душистая мята. Придут ли калиматовцы к роднику по воду, заглянут ли в поисках пропавшего теленка — уносят домой огромные охапки мяты, сушат ее, растирают, готовят приправу для постного супа, лечатся ею ото всех болезней, а она все растет необидчиво и щедро, сказочная и древняя, как родник, как старая Юзликай...
Да сколько же ей лет, этой удивительной Юзликай Кубашей? Много разного говорено калиматовцами. Одни клянутся, что ей уже сто три стукнуло — аллах свидетель! «Ну-у, — не верят другие, — ей семидесяти-то нет; глянь, какая она, — тьфу-тьфу, чтоб не сглазить! — крепкая еще да ладная». Что бы там ни выдумывали охочие до разговоров калиматовцы, каждому понятно: удивительный человек эта старая Юзликай. Шутка ли, в таком-то возрасте полчаса стегаться березовым веником в потрескивающей от жара баньке! Нитку в иголку вдеть для нее и вовсе пустячное дело, а затоскует иногда по детям своим, так часами бродит по окрестным лугам и перелескам, будто ищет там утешения... Сыновья и внуки ее, словно оперившиеся птенцы, поразлетались из родного гнезда по разным краям необъятной державы, но она до сих пор хранит в памяти не только облик, но и имена любого из своих потомков. Кажется калиматовцам — вечно, как земля наша, будет жить старая Юзликай. Надо думать, в большой она дружбе с какими-то могучими силами: хворь-болесть стороной обходит ее, да и сама костлявая, видать, побаивается! Но нет таких сказочных сил, есть просто мудрая старая Юзликай, одна из тех женщин, что терпеливо и мужественно несут бремя своей долгой многострадальной судьбы.
Старая Юзликай в последнее время все чаще уходит в мир воспоминаний. Ясен еще и крепок ее ум, но почудятся вдруг умершие близкие, послышатся давно угасшие голоса... будто ангел смерти, взмахивая над нею крылами, путает мысли старой Юзликай, шепчет об иной, далекой-далекой земле... Где-то там ее Губайдулла?..
На деревне Губайдуллу кликали Кубашем. Двадцати семи лет вышла Юзликай за него. Был тогда Кубаш вдовцом, схоронил первую жену. Ах и сумасбродный был человек, шальной, право слово! Силушки и гордости, однако, неимоверной: поедет, бывало, в лес и кряжины огромадные в одиночку на роспуски взваливает, а нарвется на объездчика, так прямо на эдаком тяжеленном возу и удерет через самую что ни на есть глухомань-чащобу, только кусты трещат. Вот и досумасбродился: завалился однажды зимой в рытвину, бревешки-то пораскатились, взыграла в Кубаше лихая ярость — схватил здоровенную дубину да, в сердцах, вытянул лошадь вдоль хребта, так она и упала замертво. А в лесу метель, буран — всю ночь блуждал Кубаш без пути, без дороги и лишь под самое утро ни жив ни мертв добрался до дому. Крепко прохватила Кубаша злая стужа — скрутила! — много месяцев провалялся он в постели недвижной колодой. А все заботы по хозяйству упали на плечи Юзликай — и она выдюжила, ото всех напастей судьбы смогла отстоять и хворого мужа, и семью, и избу. Веснами, как только стаивали снеги с окрестных лугов, взваливала она болезного на закорки и выносила в чистое поле, к светлому солнцу, к вольному воздуху; отпаивая его смородиновой пастилой да березовым соком, отваром молодой, весенней крапивы и еще какими-то травами, соками, настоями, поставила-таки Губайдуллу на ноги — а ведь казалось, не жилец Кубаш, не выправится, нет... И потом, через год рожала ему крепких, горластых детишек, словно заботливая наседка, хлопотала над ними с утра до ночи.
Старший сын ее, Шавали, был уже опорой в семье, когда ушел в лучший мир Губайдулла, неугомонный неистовый Кубаш. Потом померли двое от болезни, да еще троих сгубила проклятая германская война, — осталось у Юзликай шестеро детей, шестеро из одиннадцати.
Шавали стал хозяином, отделился, взял жену. Три дочки повыходили замуж, да все в чужие деревни, будто своих женихов им не хватало. А пятый, Баязит, и вовсе к узбекам подался... правда, говорят, стал там большим человеком, ученым. Перед Отечественной все письма домой слал, уговаривал мать: «приезжай да приезжай!» Сам даже прикатывал — не согласная Юзликай, где там! Ну разве ж уедет она, покинув родной дом, в чужую сторону, где ни зеленых трав, ни студеной воды, только бури ярятся да песок жгучий? У нее ведь младшенький еще есть, Абузар, яблочко ее ненаглядное. Однако не суждено было старой Юзликай долго радоваться на любимого сына: грянула война, и Абузар ушел защищать от злого врага родную землю... потом пришло извещение: пропал без вести. Невестка же, красавица Салима, что за десять лет так и не родила Абузару ни сына, ни дочки, получив страшную весть, собрала подушки свои, приданое девичье, и ушла к родителям, ушла безоглядно.
В опустевшем Кубашевом гнезде — одна старая Юзликай...
Что оставалось ей? Перебраться к старшему сыну, крепкорукому Шавали? Жил он твердо своим домом, перешагнул шестой десяток, но ловок еще был и жилист, наплодил полную избу детей, вырастил их, выкормил. Да вот жена его Магиша, первейшая по всей деревне скареда, вцепилась мужу в бороду и поклялась, что житья ему не даст, пусть только попробует возьмет к себе в дом старуху...
На селе не знали, как и подумать, решили было на общем сходе поставить Юзликай на колхозный «пенсион» и теперь, по-крестьянски неторопливо и трудно, прикидывали что к чему, когда, стуча дверьми, ворвалась в правление старшая дочь Шавали, бойкая Файруза, и с порога закричала:
— Родимую мать миру на руки да после этого мужиком себя величать?! Тьфу, срам какой! Сама пойду к бабке жить, а такому не бывать! Все!
Заседавшие облегченно вздохнули. Если уж Файруза что скажет — считай, так и будет: умрет, а на своем настоит. Вот девка!
А в Файрузе мужиковатая прямота и трогательная душевность слились непостижимо, создали натуру странную и непростую. Бывало, еще до войны, в самый разгар страды могла полеживать Файруза в пряной тени лапаса[1] и сильным голосом певать протяжные песни. Было ей тогда — девятнадцать лет. В коротком платьишке, сверкая голыми икрами, ходила она по людной улице к роднику, лениво ступала босыми ногами, и тугой, налитой груди ее тесно было в нелепом платье: лопались застежки, в распахе ворота розовела теплая плоть. Таращили на Файрузу глаза прохожие; боязливые женщины-татарки, что испокон веков прятали свое тело от греховных мужских взоров, женщины, что и разговоры-то вели, прикрывая рот уголком платка, смотрели так, словно готовы были разорвать ее на части, распять, развеять на ветру. Но задевать опасались, чур, чур! — лихая Файруза девка, палец ей в рот не клади. А она знала: давно миновали те староглупые времена, когда женщина была чем-то вроде домашней скотинки, нет уж, права все теперь на ее стороне. Парни ухлестывали за Файрузой отчаянно и понапрасну, она и глазом на них не повела, видно, не настало еще ее волнительное времечко, не проснулась в девичьей душе любовь...