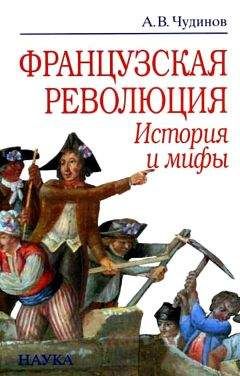Александр Гриценко - Антропология революции
Заметим, что в восприятии Шаламова идея отражения жизни окажется намертво спаяна с идеологическими обобщениями и с учительной ролью литературы, хотя сам по себе мимесис не подразумевает ни того, ни другого. Эта «автоматическая» связь, постоянно всплывающая и в литературных манифестах Шаламова, и в частной переписке, скорее всего, также растет из полемики с социалистическим реализмом квазитолстовского толка. Непременная дидактическая связь между изображаемым и должным вызывала у Шаламова крайнее отвращение. «Все, кто следует толстовским заветам, — обманщики. Уже произнося первое слово, стали обманщиками. Дальше их слушать не надо… человек человека не может, да и не должен учить» (Шаламов 2004: 919).
Однако разговор Шаламова с Третьяковым остался незаконченным — в том же, 1929 году Шаламов был арестован в подпольной типографии и в Москву вернулся только через три года. За это время «Новый ЛЕФ» прекратил существование, затем многочисленные групповые концепции были официально вытеснены соцреализмом, возник, согласно постановлению ЦК, Союз писателей, значительная часть литературной жизни СССР как бы выпала на время из общемирового культурно-исторического процесса, а в 1934 году из литературного процесса по независящим от него причинам выбыл и сам Шаламов — хотя и не полностью: в 1943 году он получил новый срок — десять лет, в частности, за то, что назвал Бунина русским классиком. Третьяков был к тому времени уже четыре года как расстрелян.
В 1954 году Шаламов начнет оформлять в прозе свой лагерный опыт.
2В отличие от Адорно, у Шаламова не было сомнений в том, что «после самообслуживания в Треблинке и Освенциме, после Колымской и Вишерской лагерной системы» (Шаламов 2004:884) можно писать и стихи, и прозу, — и точно так же у него не было сомнений, что делать это следует на основе принципов, исключающих традиционную учительную функцию литературы.
Сами же принципы будут звучать удивительно знакомо:
Писатель — не наблюдатель, не зритель, а участник драмы жизни, участник не в писательском обличье, не в писательской роли. Плутон, поднявшийся из ада, а не Орфей, спускавшийся в ад.
(Шаламов 1996:429)Экзюпери показал, как выглядит воздух, в «Земле людей». Проза будущего — это проза бывалых людей.
(Шаламов 2004:881–882)Новая проза — само событие, бой, а не его описание. То есть документ, прямое участие автора в событиях жизни. Проза, пережитая как документ.
(Шаламов 1989:241)Все это очень похоже на позицию «фактовиков» и лично Третьякова — собственно, совпадение почти дословное, в теоретических текстах Шаламова присутствует та же четко заявленная ориентация на взгляд изнутри, из глубины «материала». (Ведь это Третьяков некогда жаловался, что «производственными глазами ни вещей, ни людей в искусстве еще не видит почти никто» [ЛЕФ 2000: 235]).
Но это позиция «литературы факта», взятая с одним — очень существенным — сдвигом. Шаламов говорит не о документе как таковом. И даже не о «человеческом документе». Но о художественной прозе, впечатление от которой совпало бы со впечатлением от пережитой реальности.
«Нужно и можно написать рассказ, неотличимый от документа, от мемуара» (Шаламов 1996: 428).
Но для чего это нужно?
Много позже, в 1971-м, Шаламов занесет в записную книжку: «Война может быть приблизительно понята, лагерь — нет».
Шаламову — вполне в соответствии с логикой 1920-х годов — потребовались принципиально иные изобразительные средства для воспроизводства опыта, который не мог быть воспринят внешней — по отношению к лагерю — аудиторией даже приблизительно. При этом пишет он о людях, которые пережили революцию, голод 1930-х, войну, послевоенную разруху. И тем не менее с лагерем, с Колымой эта аудитория совместить себя, по мнению автора, не может.
С точки зрения Шаламова, чистый документ, непосредственное свидетельство в этой ситуации бесполезны. Чтобы читатель мог воспринять документ, в арсенале культурной памяти должен присутствовать хотя бы относительно адекватный язык описания, который позволит человеку соотнести себя с этим документом.
«Проза, пережитая как документ», обладающая одновременно свойствами «литературы факта» и художественного текста, могла передать читателю чужой опыт вместе со средствами его интерпретации.
Интересно, что убеждения Шаламова совпадают с точкой зрения Лидии Гинзбург, принадлежавшей к младшему поколению ОПОЯЗа — и тоже считавшей, что среда, в которой существует литература, изменилась качественно: «Честертон умер в 1936 году. Он видел еще не все, но многое видел; у него брат погиб на войне четырнадцатого года. И все же девятнадцативечное (вероятно, иллюзорное) чувство безопасности. Они не понимали, что бывает существование — например, лагерное существование миллионов, — которое хуже небытия, которое от перехода в небытие удерживает только темный, дремучий инстинкт жизни» (Гинзбург 2002: 317). «Романы бесполезно читать, потому что этот вид условности перестал работать (условность стиха пока работает). Пруста можно читать, потому что это преодоление романа» (Гинзбург 2002: 306)[341].
Но рассказ, способный стать для читателя «самим событием», а не его описанием, должен тем или иным образом воспроизводить в сознании читателя сенсорную наполненность реальной жизни.
И естественно, любая плотность символов, знаков, метафор, отсылок — и взаимосвязей между ними, — многократно повышающих количество внутренних «измерений», может оказаться недостаточной — просто в силу того обстоятельства, что информация поступает только по одному (зрительному/слуховому) каналу и только в вербальной форме.
Есть и иная опасность. Опыт исследования поэтики говорит, что даже при сравнительно небольшой плотности используемые в тексте кодовые системы с неизбежностью вступают во взаимодействие, порождая волны не предусмотренных автором значений[342].
При включении в информационную цепь читателя (чей аппарат «дешифровки» основан на культурных конвенциях, по определению не тождественных авторским) объем возникающих «посторонних значений» может расти в геометрической прогрессии, деформируя — или полностью вытесняя — первоначальный авторский замысел.
Таким образом, необходимое для создания «новой прозы» повышение смысловой нагруженности текста может привести к частичной или полной дезинтеграции этого текста и, как следствие, к прекращению коммуникации между автором и читателем. В случае Шаламова, видевшего в «новой прозе» художественный ответ на многократно возросшую смертоносность окружающего мира и мотивировавшего необходимость создания этой прозы в том числе и соображениями этического характера, цена коммуникативной неудачи была достаточно высока.
Не менее важно то, что Шаламов считал лагерный опыт нечеловеческим — в буквальном смысле слова — и поэтому ни к чему известному не сводимым и в силу обоих этих обстоятельств — вредоносным:
Автор «КР» [ «Колымских рассказов». — Е. М.] считает лагерь отрицательным опытом для человека — с первого до последнего часа. Человек не должен знать, не должен даже слышать о нем. Ни один человек не становится ни лучше, ни сильнее после лагеря. Лагерь — отрицательный опыт, отрицательная школа, растление для всех — для начальников и заключенных, конвоиров и зрителей, прохожих и читателей беллетристики.
(Шаламов 1989:547)Трансляция этого отрицательного опыта в формах, которые хотя бы допускают его осмысление, сама по себе требовала принципиально иных средств.
Чтобы воплотить в текст идею «новой прозы», Шаламову нужно было коренным образом перестроить коммуникативную систему «автор — сообщение — читатель».
На наш взгляд, Шаламову удалось это сделать и создать мощный, многоуровневый генеративный механизм[343], но, поскольку в данной работе речь идет о ЛЕФе, мы бы хотели поговорить лишь об одном из этих уровней — об используемых в «Колымских рассказах» приемах монтажа и их принципах.
3С момента появления в «самиздате» «Колымские рассказы» (далее — КР) бытовали в нем как литература свидетельства. Обстоятельство удивительное, ибо даже при самом поверхностном прочтении быстро обнаруживается, что КР достаточно сложно назвать документом или воспринять как документ — в том числе и как документ человеческий.
Ни о какой спонтанности, ни о какой непосредственности не может быть и речи. Второй рассказ первой книги КР, «На представку», начинается словами «Играли в карты у коногона Наумова…»: как неоднократно отмечали исследователи КР, зачин «Пиковой дамы» здесь мгновенно опознается. Эта фраза и рассчитана на узнавание, на культурную реакцию.