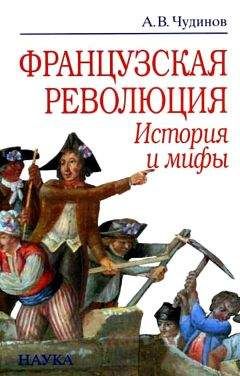Александр Гриценко - Антропология революции
Одним из следствий данного явления было то, что вопреки стереотипному представлению о либертене как дебошире и развратнике либертинаж мог описываться даже и не как результат (сексуальный акт), но как сам процесс обольщения. Так, например, у Кребийона-сына в его романах нет любви, которая не была бы физической или не имела тенденцию сделаться таковой. Но при этом сам рассказ каждый раз строится таким образом, что удовольствие сформировано ожиданием или же воспоминанием о давнем или недавнем удовольствии или описанием всей стратегии любовного наступления. Описание всех этих «стыдливостей» (pudeurs) и создает всевозможные нюансы[324].
Характерно, что в одном из своих первых рассказов, «Сильф, или Сон Госпожи де Р***, описанный ею самой в письме Госпоже де С***» (1730), Кребийон-сын сделал своим героем фантастическое существо, чья репутация «опасного любовника» обязана была магической власти, которой он обладал и о которой вместе с тем сожалел: «Мы знаем, что происходит в женском сердце, как только у нее возникает желание, мы его удовлетворяем»[325]. Впрочем, тут же он добавлял: «Любовник, который знает обо всем, о чем думают, очень неудобен. С ним не существует более дистанции между признанием и чувством, желанием и удовольствием…»[326]
Так и в основе «главного» романа Кребийона «Заблуждения сердца и ума» лежит изложение и угадывание «задних мыслей» и чувств героев, скрывающихся за галантной риторикой. Но по мере того, как все более ухищренными становятся чувства и желания, делается очевидным, что вместе с вопросом о психологической правде чувства и желания ставится и вопрос о правде языка. Сомневаться в искренности чувства означает также вопрошать себя, существует ли для него адекватное и аутентичное выражение (именно поэтому в глазах маркизы алогизмы обращенного к ней любовного письма могут выражать как любовь, так и просто желание показать свою любовь, всего лишь играя в нее). В романе герои считают, что они влюблены, они говорят, что влюблены, они считают влюбленными других — возникает целый поток риторики. И мы начинаем понимать, что софизмы любви и есть сама любовь. А возникающая игра между приличием языка и неприличием поведения, между формой и реальностью побуждает трактовать в определенной степени и само чувство как порождение языка.
Но как раз лингвистическая составляющая либертинажа, согласно которой именно язык организует материю восприятия, — и как тут не вспомнить сенсуализм Кондильяка — неожиданно сближает этот тип литературы с явлением, казалось бы, совершенно иного порядка — чувствительной литературой, наследием средневековой куртуазности, на которую наложились новейшие течения неоплатонизма и глашатаем которой во Франции стал еще в 1720-е годы Мариво. А ведь именно ему принадлежало открытие любви как рождающейся в первую очередь в речи, а не во внеположной речи реальности.
Считается, что сентиментализм как открытие чувства стал выражением новой бюргерской этики, противостоявшей аморальности пресыщенных аристократов[327]. Другие исследователи настаивают на ложности данной гипотезы, считая, что сентиментализм и либертинаж существовали и в жизни, и в литературе как две параллельные друг другу тенденции, выразившие борьбу за освобождение чувства (сентиментализм) и чувственности (либертинаж) — во имя всеобщего грядущего освобождения[328]. Интересно, что заслуга сближения двух этих тенденций приписывается во многом Руссо, и в частности его «Юлии, или Новой Элоизе» (1761), главный герой которой, чувствительный Сен-Пре, окончательно закрепляет за чувством функцию искупления «заблуждений сердца и ума», которая ранее принадлежала физическому удовольствию как выражению естественной потребности природы.
И действительно, в целом ряде романов, определяемых ныне как романы либертинажа, либертинаж, хотя и мыслимый как отказ от всех форм проявления сильного чувства (от влюбленности, поскольку она порабощает; от эротического настойчивого желания — либертен должен сам выбирать себе жертв; от всего непосредственного — либертен презирает то, что дается сразу), все же оказывается неким преддверием открытия «чувства» именно в его метафизическом, идеалистическом понимании, приоритет которого сами французы уже с середины XVIII века отдавали немцам[329]. Так, уже известный нам граф Мирабо создает в 1788 году роман «Поднятый занавес, или Воспитание Лоры»[330], своего рода либертинажную версию «Эмиля» Руссо, в котором, несмотря на его провокативный и даже пародийный характер, все же парадоксальным образом создается некое подобие сентиментальной идиллии. Еще серьезнее дело обстоит в «Любовных похождениях кавалера Фобласа», где бесконечные любовные авантюры героя, его метания между любовью чувственной, греховной, и любовью искупительной, сентиментальной, приобретают видимость поиска истины — своего рода «схождение во ад, чтобы стать в финале романа достойным законного брака»[331].
Намек на то же завершение заблуждений есть и в незаконченных «Заблуждениях сердца и ума» Кребийона: во всяком случае, появление прекрасной Ортанс, несмотря на ее временное поражение перед опытной соперницей-либертенкой, дает возможность предположить, что либертинажный опыт героя станет определенным этапом на пути постижения истинного чувства.
Наконец, даже и в «Опасные связи» — роман о либертинаже и его крахе — все равно оказывается инкорпорирован свой роман о любви именно как о чувстве, мимо которого и по сей день некоторые интерпретаторы стараются пройти, считая, что линия Вальмона и президентши де Турвель достаточно маргинальна для «Опасных связей» (эта же точка зрения отразилась и в блистательной сценической адаптации романа немецким драматургом Хайнером Мюллером «Квартет»). А между тем де Турвель не только олицетворяет собой истинное, непритворное чувство, но в определенной степени предвещает тех романтических героинь, которые появятся уже в литературе следующего века (недаром сам Лакло говорил, что Турвель — единственный абсолютно вымышленный образ, примеров которому он не мог найти в действительности). И если роман Лакло и не превращается в финале в сентиментальный, то лишь благодаря «последовательности» Вальмона, не решившегося полностью отдаться чувству, но все же явно попавшего под его влияние.
Любопытно, что та же тенденция выражена и в «Терезе-философе», романе на грани порнографии, где весь опыт философского (и не только) либертинажа, через который проходит героиня, является своего рода инициацией в истинное идеальное чувство, которому Тереза отдается в финале, полюбив графа, — как если бы ее чувствительность вырастала от соприкосновения с пороком[332].
Конечно, две системы ценностей, чувство и чувственность, сентиментализм и либертинаж, в принципе были плохо совместимы. Однако их внутренняя борьба, их неизбежное столкновение и даже переплетение многое определили в дальнейшем развитии литературы. В определенном смысле можно было бы сказать, что именно эта борьба двух тенденций заставила осознать всю разницу, существующую между желанием и любовью, — и тем самым научила прислушиваться и выражать движения человеческого сердца.
Несколько десятилетий спустя то же прохождение через опыт либертинажа, но на этот раз необходимое для постижения божественной любви, станет сюжетным ходом двух экспериментальных романов раннего немецкого романтизма, «Люцинды» Ф. Шлегеля (1799) и «Годви» К. Брентано (1801), которые принято ныне рассматривать как мета-романы об истории философии любви. Но это — уже тема другого разговора.
Елена Михайлик
Незамеченная революция
Когда Варлам Шаламов решил написать цикл рассказов о Колыме, он параллельно начал формулировать положения теории, описывающей природу этих рассказов. Один из таких документов назывался «Манифест о новой прозе». Шаламов собирался сводить счеты не только с историей и антропологией — но и с литературой. Избранный же термин — «новая проза» — принадлежал не концу 1950-х, когда он был создан, а совсем другому времени, когда все, от литературы до быта, было, по выражению того же Шаламова, «огромной проигранной битвой за действительное обновление жизни»[333] (Шаламов 2004: 139).
Варлам Шаламов, в 1920-е — студент юридического факультета Московского университета, деятель левой оппозиции и начинающий писатель, интересовался идеями ЛЕФа, некоторое время посещал кружок О. Брика, общался с С. Третьяковым — и, при всей очарованности идеями, был разочарован тем, что увидел[334].