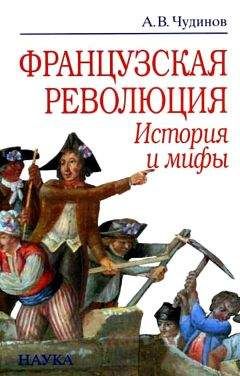Александр Гриценко - Антропология революции
Варлам Шаламов, в 1920-е — студент юридического факультета Московского университета, деятель левой оппозиции и начинающий писатель, интересовался идеями ЛЕФа, некоторое время посещал кружок О. Брика, общался с С. Третьяковым — и, при всей очарованности идеями, был разочарован тем, что увидел[334].
Все многообразные позиции — в области эстетики, политики и теории литературы, — которые в то время существовали в рамках Левого фронта искусств, казались Шаламову догматическими, узкими и плохо согласующимися друг с другом.
Шаламова одновременно привлекала — и отталкивала — жесткая ориентация на «литературу факта», апелляция к документу, представление о том, что форму произведения должны диктовать свойства материала, а автор важен ровно в той мере, в которой отсутствует в тексте.
С точки зрения Шаламова, эта позиция не оставляла места для поэзии: «На Малую Бронную ходил я недолго из-за своей строптивости и из-за того, что мне жалко было стихов, не чьих-нибудь стихов, а стихов вообще. Стихам не было места в „литературе факта“…» (Шаламов 2004: 21). Стихи получали право на существование только как служебный, агитационный вид литературы[335].
Кроме того, Шаламову казалось — тогда и потом, — что отбор фактов и ракурсов для лефовского «монтажа» все равно производился извне и по идеологическим критериям. Сам объект описания получал высокий статус «материала» только в результате предварительного осмысления.
Лефовцы в ряде статей советовали «записывать факты», «собирать факты», но копить, «искать факты» в их газетном преображении, как это делали когда-то фактовики. Но ведь это — искажение, расчисленное заранее. Нет никакого факта без его изложения, без формы его фиксации.
(Шаламов 2004:840)В воспоминаниях Шаламов описал одну из встреч с тогдашним редактором «Нового ЛЕФа» Сергеем Третьяковым — и воспроизвел очень характерный разговор о журналистском проекте.
— Вот мы опишем этот дом, сделаем фотографии двухсот тридцати пяти квартир. Я проверял — нужно будет подчеркнуть вот что… А что бросается в глаза раньше всего, когда входишь в комнату?
— Зеркала, — сказал я.
— Зеркала? — раздумывая, спросил Третьяков. — Не зеркала, а кубатура.
(Шаламов 2004:21)Выбор, таким образом, диктовался не свойствами объекта и не техническими потребностями монтажа, а заранее заданным представлением о пространстве и характере его восприятия.
Эта беседа была последней — Шаламова оттолкнули и скрытая иерархичность «Нового ЛЕФа», и жесткий формальный и идеологический диктат институции в целом.
— Вот, — сказал Сергей Михайлович, — напишите для «Нового Лефа» заметку «Язык радиорепортера». Я слышал, что надо избегать шипящих и так далее. Напишете?
— Я, Сергей Михайлович, хотел бы написать по общим вопросам, — робко забормотал я.
Узкое лицо Третьякова передернулось, и голос его зазвенел:
— По общим вопросам мы сами пишем.
(Шаламов 2004:21)Реакцию Третьякова на зеркала Шаламов запомнил как знаковую, увязал с неприятием поэзии — и общей настроенностью на догму (в автобиографическом наброске «Несколько моих жизней» он называл Третьякова «человеком решенных вопросов» [Шаламов 2004: 20]). Большая часть вариантов воспоминаний об этом инциденте заканчивалась словами «Больше я на Малой Бронной не бывал» (Шаламов 2004: 21).
Нам представляется, что реакция Третьякова и вправду была знаковой — но Третьяков в данном случае спорил не столько с начинающим автором, сколько с очень беспокоившей его тенденцией.
В конце 1920-х зеркала ассоциировались не только с рефлексией, но и со все четче проявляющимся платоновским «реализмом» новой советской культуры. Связь между изображением и предметом изображения из сферы ведения теории и критики понемногу перемещалась в сферу ведения бытовой магии — и, естественно, органов охраны правопорядка. Изображение «нетипичного», то есть нехарактерного для социализма-как-он-должен-быть, опознавалось уже как «небезвинное» действие. В рамках новой культуры даже идеологически освоенный материал оказывался — просто в силу конкретности и единичности — чем-то не вполне настоящим, не принадлежащим социалистической действительности и соответственно выморочным, враждебным[336].
Достаточно вспомнить, что центральным объектом критики на ленинградской секции конференции «О борьбе с формализмом и натурализмом» стал на первый взгляд сравнительно далекий от формализма Леонид Добычин. А между тем его тексты были названы едва ли не воплощением формализма: «Когда речь идет о концентратах формалистических явлений в литературе, в качестве примера следует привести „Город Эн“ Добычина»[337]. При этом в вину Добычину одновременно ставилось буквально то, что в его романе «Город Эн» «вот этот город Двинск 1905 года увиден двинскими глазами, изображен с позиций двинского мировоззрения» (мнение Н. Берковского[338]). Кампания, безусловно, носила политический и административный характер, но вот существо обвинений свидетельствовало о том, что на определенном уровне сама попытка соотнести поэтику со свойствами конкретного материала уже воспринималась и как искажение действительности, отрицающее необходимое революционное развитие, и как социально опасное действие.
Журнал «Советское кино» так обосновывал эту позицию: «Советская власть требовала от художника лишь правдивого отражения жизни. Формалисту была чужда в своей основе такая постановка. Формализм тянул художника от жизни, от действительности — к формам, не похожим на жизнь» (Советское кино. 1934. № 8/9. С. 8). Непохожим на жизнь объявлялось соответствие фактуры и материала.
Впоследствии Мераб Мамардашвили опишет это «правдивое отражение жизни» в выражениях, удивительно напоминающих предмет случайной беседы Третьякова и Шаламова:
Меня интересуют мыслительный механизм и состояние языка, в котором уже все есть. Остается только эту языковую наличность успевать прочувствовать, успевать вписывать в нее свои чувства и мысли. Сознание такого рода очень напоминает комнату, в которой вместо окон сплошные зеркала, и вы видите не внешний мир, а собственное изображение. Причем отвечающее не тому, какой вы есть, а тому, каким вы должны быть. Любая искорка сознания может закапсулироваться в этих отражениях и обезуметь.
(Мамардашвили 1989:184)Как нам кажется, Третьяков в конце 1920-х вполне осознавал, что тяготение советской власти к универсалиям, к языку, «в котором уже все есть», к окончательным обобщениям не оставляет для Левого фронта искусств места ни в сфере политики, ни в сфере творчества — пусть даже и прикладного. Если вспомнить полемику тех лет, то одной из постоянных мишеней ЛЕФа был Лев Толстой. Лефовцы пытались дискредитировать как саму идею будущего «красного Толстого», который грядет, дабы единолично осмыслить революцию и новый мир и отменить все прочие, лишние, случайные голоса, так и формирующийся культ «зеркала русской революции»[339]. И стремились сделать это, не переходя границ лояльности.
В этой ситуации для Третьякова-очеркиста естественно было «видеть» не предметы и их отражения, а «кубатуру» — объем и организацию пространства.
Если первое уже представляло собой опасную зону политического конфликта, то «кубатура» пока еще трактовалась культурой как продукт технологии — и соответственно с ней можно было работать, не входя в противоречие с базовыми идеологическими установками (разойтись с которыми было в те годы немудрено и искреннему стороннику советской власти). Этот выбор позволял не отказываться от ориентации на материал и при этом описывать послереволюционный мир, говоря на языке, который советская власть могла опознать как свой[340]. Но такой подход заведомо ограничивал автора и в выборе рабочего поля, и в выборе ракурса.
Парадоксальным образом «литературе факта» — во всяком случае, с точки зрения Брика и Третьякова, — чтобы создать хотя бы ощущение, что между ней и «литературой мифа» существует некий водораздел, приходилось игнорировать целые группы фактов, предметов и методов, уже как бы присвоенных нарождающимся социалистическим реализмом. Это при том, что и без подобной редактуры подход «фактовиков» был внутренне противоречив — ибо автор, который стал тождественен материалу, терял возможность об этом материале рассказать.
Дополнительным парадоксальным моментом здесь, на наш взгляд, является то, что полемическая реплика Третьякова была адресована не тому слушателю. Шаламов вовсе не был сторонником толстовской традиции — ни в оригинальном, ни уж тем более в советском ее изводе. Впоследствии он будет отзываться о литературных зеркалах очень решительно: «Однако пока не будет осужден самый принцип описательности, нравоучения — литературных побед нет… Отражать жизнь? Я ничего отражать не хочу, не имею права говорить за кого-то (кроме мертвецов колымских, может быть). Я хочу высказаться о некоторых закономерностях человеческого поведения в некоторых обстоятельствах не затем, чтобы чему-то кого-то научить…» (Шаламов 2004: 881–882).