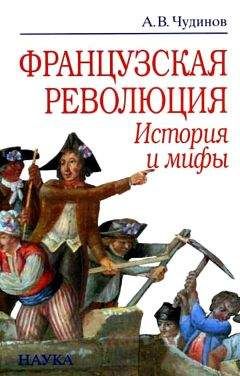Александр Гриценко - Антропология революции
Двенадцать рассказов спустя еще один — или тот же самый — повествователь опишет первую виденную им лагерную смерть. Зимой того же года по дороге на ночную смену бригада заключенных, передвигающаяся в пространстве, отграниченном уже не камнем, а слежавшимся твердым снегом, случайно оказывается на месте только что произошедшего убийства:
Лицо было белым, без кровинки, и, только вглядевшись, я узнал Анну Павловну, секретаршу начальника нашего прииска.
Мы все знали ее в лицо хорошо — на прииске женщин было очень мало. Месяцев шесть назад, летом, она проходила вечером мимо нашей бригады,
и восхищенные взгляды арестантов провожали ее худенькую фигурку. Она улыбнулась нам и показала рукой на солнце, уже отяжелевшее, спускавшееся к закату.
— Скоро уже, ребята, скоро! — крикнула она.
Мы, как и лагерные лошади, весь рабочий день думали только о минуте его окончания. И то, что наши немудреные мысли были так хорошо поняты, и притом такой красивой, по нашим тогдашним понятиям, женщиной, растрогало нас. Анну Павловну наша бригада любила.
(Там же: 85)Таким образом, рассказчик из «Дождя» сообщает читателю нечто, не соответствующее действительности цикла: кем бы ни был «я» — но просто в силу работы именно в этой бригаде он точно знал, не мог не знать, кто эта женщина — женщин на прииске было мало. Он с неизбежностью должен был видеть ее потом, если не живой, то мертвой.
Подобные разночтения характерны не только для первого цикла. Так, рассказ «Прокуратор Иудеи», которым открывается сборник «Левый берег», повествует об авральной ситуации в одной из колымских больниц: в Магадан прибыл пароход «КИМ» с тремя тысячами обмороженных заключенных — на корабле случился бунт и трюмы в сорокаградусный мороз поливали водой из брандспойтов, — а ни город, ни окрестные госпитали, естественно, не были рассчитаны на такое количество срочно нуждающихся в помощи людей.
Заведующий хирургическим отделением, вольнонаемный врач Кубанцев, бывший фронтовик, при виде этого потока потерял ориентацию и передал руководство своему подчиненному из бывших зэков, а потом заставил себя забыть об этом инциденте. Повествование заканчивается словами: «У Анатоля Франса есть рассказ „Прокуратор Иудеи“. Там Понтий Пилат не может через семнадцать лет вспомнить Христа».
А в рассказе «Потомок декабриста» заведующий хирургическим отделением той же самой колымской больницы, вольнонаемный врач, носящий уже фамилию Рубанцев, описан как человек в высшей степени достойный не только по советской, материковой, но и по куда более жесткой колымской мерке — его опыт и милосердие проявлялись, в частности, в том, что он не делал показанных операций язвы желудка, потому что знал, что истощенные заключенные операции не перенесут. Преемник Рубанцева оперировал двенадцать таких больных — и все двенадцать умерли.
Читатель не знает, какой из двух заведующих настоящий: «прокуратор Иудеи», умывший руки и забывший о трех тысячах обмороженных, — или честный и ответственный врач? Возможно, это один и тот же человек в разные моменты времени? А возможно, повествователь успел забыть, о ком речь, — и читателю предстоит сделать то же самое.
Глебов, один из персонажей рассказа «Ночью» (цикл «Колымские рассказы»), не помнит, был ли он когда-нибудь врачом. Память плохо работает на морозе. Так отчего бы обитателю полуподземного приискового мира не забыть имя и судьбу секретарши, не разделить надвое биографию лагерного врача? Возможно, и само воспоминание существует здесь только в виде блока, цельного повествования, временного среза — и даже носителю недоступно извне, из иного дня, из иного набора ассоциаций. Если это так — то в какой мере выбор средств диктуется уже не предпочтениями автора, но тем воздействием, которое оказал на него лагерь? И в какой мере это воздействие, в свою очередь, служит изобразительным средством? В пределах КР материал «делал» автора в самом буквальном смысле слова — определяя физиологические параметры.
Леона Токер, один из первых исследователей поэтики «Колымских рассказов», пишет об этом свойстве шаламовской прозы:
Они [ошибки и повторы] не оставляют сомнений, что автор рассказов на самом деле является носителем описанного опыта, что это человек, чьи физическая и умственная энергия были высосаны досуха, человек, оставшийся в живых лишь огромным напряжением воли. Как и его тело, память автора покрыта шрамами.
(Toker 1989:298–209; перевод мой) 4Нередко в пределах цикла сталкиваются, прямо противоречат друг другу не только реакции и интерпретации, не только версии конкретных событий, но и важнейшие сюжетные решения. В рассказе «Лида» (цикл «Левый берег») персонаж по имени Крист — один из двойников автора — обречен на новый арест, потому что в приговоре-аббревиатуре КРТД (контрреволюционная троцкистская деятельность), выданном ему Особым совещанием, есть роковая буква «Т» — «троцкистская», обрекающая ее носителя на уничтожение[346]. От гибели Криста спасает сначала заключенный-бытовик, укравший для него листок из личного дела, а потом секретарша Лида, которую он, в свою очередь, некогда оставил в больнице, защитив таким образом от внимания мелкого лагерного начальника.
Но в следующем за ним почти подряд рассказе «Мой процесс» герой — уже открыто носящий фамилию Шаламов — потеряет литеру «Т» при куда менее доброкачественных обстоятельствах: его осудят на десять лет по ложному обвинению, и новый приговор окажется по парадоксальной логике лагерей не бедой, а благом. «Я уже не был литерником со страшной буквой „Т“. Это имело значительные последствия и, может быть, спасло мне жизнь» (Шаламов 1992: 296). А в рассказе «Начальник больницы» роковая буква «Т» снова возникнет в личном деле рассказчика, будто отменяя — одновременно — и бескорыстную помощь, и обернувшееся пользой зло.
Порой создается впечатление, что факты вытесняются на обочину потребностями сугубо внутрилитературного свойства. Например, герой рассказа «Потомок декабриста», доктор Сергей Михайлович Лунин, — изменивший и профессии врача, вернее, существу этой профессии, и любимой женщине — никак не мог быть тем, кем назвался, — родным и законным правнуком носителя знаменитой фамилии.
У знаменитого Михаила Сергеевича Лунина не было детей — его наследником по завещанию стал его двоюродный брат Николай Александрович Лунин. И если Шаламов, обладавший блестящей, эйдетической памятью, увлекавшийся историей революционного движения, знавший мелкие подробности биографии деятелей пятого, шестого ряда, гордившийся этим знанием — и уже успевший неоднократно продемонстрировать его в пределах цикла, — позволил персонажу так представиться и не оспорил его родословную, он, безусловно, сделал это сознательно.
Конечно, происхождение Сергея Михайловича могло присутствовать в тексте как пример характерной лагерной байки — «не веришь, прими за сказку», — но начало рассказа содержит еще одну значимую ошибку:
О первом гусаре, знаменитом декабристе, написано много книг. Пушкин в уничтоженной главе «Евгения Онегина» так написал: «Друг Марса, Вакха и Венеры…»
Рыцарь, умница, необъятных познаний человек, слово которого не расходилось с делом. И какое большое это было дело!
О втором гусаре, гусаре-потомке, расскажу все, что знаю.
(Шаламов 1992:237–238)Но Сергей Михайлович вовсе не был гусаром, он был студен-том-медиком, недоучкой. А назвав его «вторым гусаром» и якобы поверив в сказочное родство, Шаламов отсылает читателя к «Двум гусарам» все того же Толстого — и эта отсылка явным образом диктует дальнейшее развитие сюжета, заранее формируя его как историю падения.
Рассказ «Последний бой майора Пугачева», повествующий о групповом побеге бывших военных, как мы продемонстрировали в другом месте, узнаваемо стилизован под военную кинобалладу (Михайлик 1997).
Присутствие систематических разночтений и отсылок к внешним, заведомо вымышленным, текстам, к событиям других рассказов создает зазор между рассказчиком и автором, между вспоминающим и тем, кто организует воспоминания. Забывание, несогласованность, распад, построение текста по тому или иному литературному принципу становятся опознаваемым грамматическим средством — как повторяющиеся имена, воспроизводящиеся обстоятельства. Их существование как бы автоматически постулирует возможность того, что рассказы цикла объединены неким общим сюжетом, заставляет искать эти связи.
И связи не замедлят обнаружиться.
В рассказах «Детские картинки», «Хлеб», «Тифозный карантин», кажется, описывается один и тот же период — эпидемия тифа на Колыме, вернее, побочное ее следствие, когда все заключенные, по какой-либо причине попадавшие в Магадан, скапливались в карантине. Совпадающие подробности — вывод на работу, отсчет пятерок в карантинных воротах…