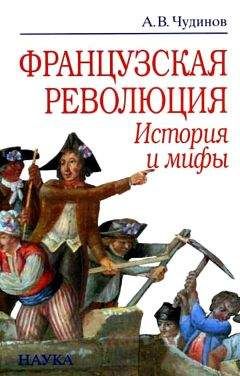Александр Гриценко - Антропология революции
Два рассказа написаны от первого лица, последний — «Тифозный карантин» — от третьего. Характеры, образ действий, физическое состояние протагонистов совпадают не вполне — вряд ли Андреева из «Тифозного карантина», все силы которого направлены на выживание и осознание себя, заинтересовали бы найденные на свалке детские рисунки. И вряд ли он стал бы думать о тундре с ее чистыми красками как о творении бога-ребенка. А впрочем, карантин тянулся долго, со временем могло вернуться и это.
А вот в рассказах «Тайга золотая» и «Домино», разделенных всего тремя текстами, явно действует один и тот же человек в одних и тех же обстоятельствах. Совпадения едва ли не дословные:
— Ну, — говорит он, — на прииск ты не хочешь ехать.
Я молчу.
— А в совхоз? В теплый совхоз, черт бы тебя побрал, сам бы поехал.
— Нет.
— А на дорожную? Метлы вязать. Метлы вязать, подумай.
— Знаю, — говорю я, — сегодня метлы вязать, а завтра — тачку в руки.
— Чего же ты хочешь?
— В больницу! Я болен.
(«Тайга золотая»; Шаламов 1992: 99)— Почему ты не хочешь ехать?
— Я болен. Мне надо в больницу.
— В больнице тебе нечего делать. Завтра будем отправлять на дорожные работы. Будешь метлы вязать?
— Не хочу на дорожные. Не хочу метлы вязать.
(«Домино»; Шаламов 1992:117)Но если в «Тайге золотой» эта сцена — часть серии зарисовок, без начала и без конца, то в рассказе «Домино» читатель задним числом узнает, почему зэк из «Тайги золотой» отказывался от работы и пытался задержаться на пересылке, почему надеялся, что ему удастся попасть в больницу. Болен он был, но это не имело значения и само по себе не сказалось бы на его судьбе — существовал еще и знакомый врач, однажды уже вмешавшийся в отношения рассказчика с «резким физиологическим истощением», врач, на помощь которого рассказчик мог достаточно твердо рассчитывать. Эта помощь определила и дальнейшую судьбу персонажа, поскольку именно с подачи врача он попал на фельдшерские курсы. Таким образом, все рассказы, где действие происходит в больницах («Тетя Поля», «Галстук», «Геркулес», «Шоковая терапия»), до того существовавшие в цикле просто как изображение определенного сегмента лагерной жизни, обретают конкретный ракурс, с которого ведется повествование, и становятся как бы частью биографии одного из сквозных персонажей — «как бы», поскольку (как мы увидим ниже) своеобразный «обмен» и личным опытом, и обстоятельствами лагерной карьеры в рассказах Шаламова тоже более чем возможен.
Интересная метаморфоза происходит с уже упоминавшимся Дугаевым из рассказа «Одиночный замер»: мы знаем о нем, что ему двадцать три года, что он студент юридического факультета, что он высокого роста и потому особенно остро ощущал недостаток пищи и рано ослабел, а начальство считало, что он отлынивает от работы.
Последний мотив — рослому человеку не хватает пайки, он теряет силы, но его принимают за симулянта — будет часто всплывать в пределах цикла («Ягоды», «Шоковая терапия»),
В рассказе «Заговор юристов» выяснится, что рассказчик, чья личность, возможно, совпадает с личностью автора, ибо именно он советует будущим драматургам избрать местом действия колымскую столовую, — тоже недоучившийся студент-юрист, хотя он, конечно, много старше. А из биографии Шаламова известно, что он был впервые арестован в двадцать два и попал в лагеря в двадцать три года. Таким образом, к концу цикла история Дугаева из событий в биографии «отдельно стоящего» персонажа превращается в возможный вариант судьбы автора.
Прямая и легко опознаваемая связь существует между рассказом «Заговор юристов» и «Тифозным карантином» — последним рассказом цикла. Именно в карантине окажется рассказчик «Заговора», когда сфабрикованное против него обвинение рассыплется — не в связи с абсурдностью, а просто потому, что выдумавшего дело следователя самого арестуют по обвинению в каком-то — видимо, уже ином — заговоре.
Возможно, Андреев «Тифозного карантина» («Вот он здесь еще живой и никого не предал и не продал ни на следствии, ни в лагере» (Шаламов 1992: 159)), медленно восстанавливающий человеческий облик, использующий время карантина, чтобы разогнуть ладони, казалось, безнадежно согнутые по черенку лопаты, — это тот самый «юрист». И, значит, смертоносное обвинение и арест спасли ему жизнь, вовремя изъяв из забоя.
В финале «Тифозного карантина» Андреев, который считал, что «выиграл битву за жизнь», продержавшись в карантине достаточно долго, чтобы тайга «насытилась людьми», — обнаруживает, что его и его четверых товарищей по карантину (кочегара Филипповского, печника Изгибина, столяра Фризоргера и некоего безымянного агронома-эсперантиста) снова увозят в горы, наверх, туда, где прииски и лесоповал. И Андреев думает, что расчет подвел его.
Финал цикла остался бы открытым, если бы много раньше в рассказе «Апостол Павел» от первого уже лица не описывались будни геологической партии, в которой в силу превратностей приливов и отливов рабочей силы оказались пять человек из магаданского тифозного карантина — паровозный кочегар Филиппове — кий, печник Изгибин, агроном Рязанов, слесарь Фризоргер — и рассказчик, попавший в группу за высокий рост. Может быть, это Андреев. Может быть, расчет оказался верен. А может быть, Андреев мертв, и его историю излагает человек, занявший его место, неотличимый от него.
Но сама эта необходимость вернуться назад по ходу цикла, вспомнить, восстановить — многократно усложняет текст.
Отсутствие же четких границ между личностями персонажей и разночтения в описании событий вынуждают рассматривать любую подробность как важную по умолчанию, а повествователя — как еще одну переменную, значение которой может быть равно чему угодно. Не только потому, что читатель так до конца и не знает, имеет ли он дело с совпадениями, результатами общего для всех лагерного давления или с вариативной биографией одного человека. Не только потому, что невозможность отличить врача от колхозника из Волоколамска и снаружи, и изнутри может обернуться гротескным, словно бы пародирующим соцреализм литературным приемом — стремлением показать типический характер (заключенного) в типических (лагерных) обстоятельствах (ибо психологически достоверный и узнаваемый зэк из золотого забоя — это психологически достоверный и узнаваемый полутруп, не помнящий имени собственной жены). Но и по причинам куда более фундаментального свойства.
Действительно, неизвестно, кто написал рассказ «Заклинатель змей» — вставную новеллу в одноименном рассказе, историю о прииске «Джанхара», «воровской» зоне, об угодившем туда, на верную смерть, бывшем киносценаристе — и о спасительном его таланте рассказывать бесконечные увлекательные истории, «тискать романы», как это называлось на уголовном жаргоне. Таланте, сохранившем его обладателю жизнь — и превратившем его в обслугу при воровской верхушке. Киносценарист с говорящим именем Андрей Платонов делится с рассказчиком своим намерением написать — если выживет — рассказ о себе, уголовниках и выборе: быть ли в этой блатной иерархии никем, фраером, жертвой или стать «романистом», слугой, но слугой привилегированным. Он умирает три недели спустя после разговора — от сердечного приступа, и рассказчик, питавший к Платонову симпатию, решает попробовать написать за Платонова «его рассказ „Заклинатель змей“».
Из беседы в самом начале мы знаем, что рассказчику, в отличие от Платонова, не доводилось попадать на прииск «Джанхара». «Я сам побывал в местах дурных и трудных, но страшная слава „Джанхары“ гремела везде» (Шаламов 1992: 72). Оттуда же нам известно, что рассказчик — опять-таки в отличие от Платонова — никогда не был «романистом» и наблюдал это порожденное лагерной скукой явление только извне, со стороны. «Нет, — сказал я, — нет. Мне это казалось всегда последним унижением, концом. За суп я никогда не рассказывал романов. Но я знаю, что это такое. Я слышал „романистов“» (Там же: 72).
Таким образом, мы как будто заведомо осведомлены, что имеем дело с реконструкцией, где время, место и действие явным образом заменены представлением о том, какими они могли быть.
И если рассмотреть «Заклинателя змей» в контексте цикла, мы увидим, что рассказ составлен из множества мелких, уже использованных раньше подробностей. Тягостный поход за дровами после рабочего дня присутствует в рассказе «Ягоды», характер и приметы уголовников — в рассказе «На представку» и в «Тайге золотой», а рассуждение о том, что человек много выносливей животных вообще и лошадей в частности, позаимствовано из рассказа «Дождь».
Рассказчик «Заклинателя…» собирает «чужой» текст из тех крупиц своего опыта, которые, по его мнению, совместимы с опытом сценариста Платонова, — заменяя неизвестное известным, как по лагерному расчету белков и калорий заменяли мясо селедкой, а овощи магаром. Рассказ написан от имени Платонова человеком, не обладавшим его опытом — но и не заменившим Платонова. По существу — никем.