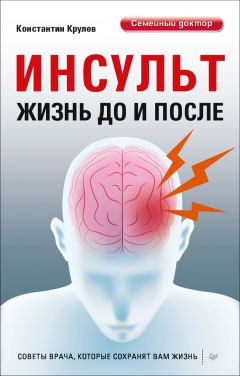Кнуд Ромер - «В Датском королевстве…»
Но Бьёркен был непреклонен.
— Будет лежать, где лежит, — заявил он. — Но если хотите, гвозди можем не забивать. — И он положил крышку гроба немного наискосок, так чтобы на лицо Ялле падала полоска света. — А теперь вернемся к картам.
Они играли в «червей», невинную игру, очень любимую Ялле. Пили и вино, и самогон, и домашнее пиво, разогрелись, настроение снова поднялось. Когда Бьёркен очутился под столом, а произошло это на удивление быстро и объяснялось, очевидно, тем, что он смешивал напитки еще до того, как они попадали к нему в желудок, Ялле снова притащили за стол. Он был почетным гостем и, конечно же, его посадили во главе стола. На сей раз обошлись без глубокой заморозки: прислонили к спинке стула, а ноги поставили так, чтобы те уперлись в ножки стола. Так покойник просидел долго. С друзьями, среди гама и табачного дыма, с трубкой во рту, с умиротворенным лицом. Друзья пили за него, говорили ему, что эти поминки будут помнить до конца света. Они обращались к Ялле как к живому, а через какое-то время никто уже и не помнил, что он умер.
Когда одна нога Ялле соскользнула с ножки стола, и он тихо сполз под стол, окружающие восприняли такое поведение как нормальное. Во время попоек Ялле всегда в какой-то момент оказывался под столом.
— Сдает наш Ялле, — икнул Мэдс Мэдсен. — Старый стал.
— Никуда эти островитяне не годятся, — хихикнул Лодвиг. Сам он еле сидел на стуле, глаза в кучку, и не мог отличить червей от пик.
Пир продолжался всю ночь и весь день. Граф отпал довольно рано. Он отполз от стола и улегся в гробу Ялле, обитом мешковиной и обтянутом хлопковым полотном. Там ему было мягко и хорошо, и он легонько и с достоинством похрапывал. Никто уже не помнил, по какому поводу собрались, да это, впрочем, было и неважно, пока праздник продолжался.
Гроб обнаружил Мэдс Мэдсен.
— Эй, кто-то умер? — крикнул он.
— Кто умер? — завопил Лодвиг.
— Тут гроб стоит, значит, какой-то идиот умер, — установил Мэдс Мэдсен.
— А в гробу кто-то есть? — спросил Херберт.
Мэдс Мэдсен пригляделся.
— Граф умер, — сообщил он народу. — Надо его похоронить, пока не испортился. — Тут Мэдс Мэдсен споткнулся о крышку и положил ее поплотнее на гроб. — Вставайте, алкоголики, — крикнул он. — У нас покойник в доме. Надо уважать усопшего.
Народ вскочил. С большим трудом, топоча и отдуваясь, они вытащили гроб на улицу и поставили в снег. На свежем воздухе дело пошло лучше. Гроб хорошо катился по снегу, и они принялись толкать его к кромке льда. Толкали, тянули, пели и орали, и наконец, благодаря милосердному провидению, добрались до шхер. Тут они остановились, сняли шапки и постояли, поддерживая друг друга, а Сизый Нос бормотал что-то, чего никто не мог разобрать. Выждав, пока Сизый Нос закончит, они объединенными усилиями столкнули гроб в воду и помчались домой, в тепло.
Настал момент, когда выпивка кончилась. Ситуация серьезная: у гостей начало проясняться в голове. Первым очнулся Бьёркен. Проснувшись, он обнаружил, что лежит, уткнувшись головой в руку Ялле.
— Что такое, Ялле не похоронили? — удивился он.
Мэдс Мэдсен, дремлющий за столом, оторвал голову от рук и спросил:
— Ялле? Но ведь умер-то Граф.
Бьёркен снова забрался под стол и осмотрел Ялле.
— Нет, умер Ялле, — сообщил он, — а где гроб?
Лодвиг открыл один глаз. Он лежал на нарах рядом с Вальфредом.
— Где Граф? — спросил Лодвиг.
По дороге к скалам Бьёркен шептал Мэдсу Мэдсену:
— Хороший человек был Граф, приятно было иметь с ним дело. Жаль, что все так получилось.
Мэдс Мэдсен огорченно кивнул.
— Никогда у нас настоящего графа больше не будет. Странно, как мы могли так ошибиться.
Грустной толпой они тащились по льду. Головы раскалывались, руки-ноги ломило, во рту — неприятный привкус. Малыш Лассе, хныча, кружил вокруг, Сизый Нос держал Херберта за ремень, чтобы не потеряться. Наконец, они увидели поднимавшийся над водой пар.
— Плывет, я так и знал, плывет! — внезапно закричал Херберт.
— Что плывет? — пробурчал Мэдс Мэдсен.
— Гроб, идиот, — в восторге захохотал Херберт. И побежал к берегу.
Он плыл. Маленький кораблик с плавными очертаниями, с большой выпуклой крышкой. Мэдс Мэдсен ухватился за форштевень и с помощью остальных вытащил лодку на лед. Они открыли крышку и уставились в гроб.
Граф сел. Прищурился, широко зевнул.
— Доброе утро, — поприветствовал он удивленную толпу. — Веселые были похороны, доложу я вам, господа.
Найя Марие Айдт
Рубцы
© Перевод Олег Рождественский
Первый день своего пребывания в городе я, как обычно, трачу на то, чтобы осмотреться. Поселившись в отеле и оставив чемодан в номере, — кстати, номер превзошел все мои ожидания: просторный, с прекрасным видом из окна, отличной кроватью и пушистым зеленым ковром во весь пол, с расположенным на почтительном расстоянии от кровати санузлом, который не воняет и не выглядит совсем уж убогим, — я решаю остаток дня провести на открытом воздухе. В приподнятом настроении от увиденного в гостиничном номере, а также от великолепной погоды, я погружаюсь в запутанный лабиринт извилистых улочек, переулков и лесенок. Этот город, как известно, раскинулся на склоне горы, и я, преодолевая бесконечные спуски и подъемы, восхищаюсь тем, как он меняется, в зависимости от того, с какой высоты на него смотришь. Живописные картины купающегося в солнце и объятого душным маревом города вызывают у меня стойкое, почти осязаемое впечатление, оказывается очень важно, под каким углом зрения и с какого места ты на это смотришь. «Как все бесконечно банально, — думаю я, — но при этом — как важно».
На уличном базаре я покупаю алый платок. Разглядываю кур и уток, покорно дожидающихся в тесных клетках своей участи — скорее всего, быть зарезанными и поджаренными, прожеванными и переваренными, после чего оказаться на земле или в фаянсовой посудине, но уже совсем в ином виде. Я пью чай из маленьких расписных чашечек. Ем медовое печенье. Затем в несколько более цивилизованном месте мне приносят пряную баранину с рисом. В общем и целом, голод утолить удается. Я карабкаюсь по узким лестницам все выше и выше, и спина под тонкой рубашкой покрывается потом. Приближаюсь к большой мечети — возвышающемуся над городом тяжеловесно-строгому и отчасти даже угрюмому монументу, производящему в то же время впечатление эфемерной легкости и свободы. Вид мечети наводит меня на размышления о том, что все мы пытаемся прожить свою жизнь, лавируя между двумя полюсами, двумя разными идеалами бытия. «А мне удается, — думаю я, испытывая при этом чуть ли не эйфорию, и стараюсь поточнее сформулировать внезапно посетившую меня мысль, — соединить эти противоречия в единое целое, что гарантирует мне одновременно и строгий самоконтроль, и свободу». Я без устали подмечаю разнообразные проявления этих крайностей: пряный запах цветов и диких трав, пробивающихся повсюду сквозь булыжник и асфальт; темные лица мужчин с ярко выделяющимися белками глаз, внутри которых прячется разноцветная радужная оболочка; на мгновение показавшаяся из-под вороха закрытых одежд изящная женская рука или нога и толстые стены древних домов. Меня привлекает даже вид откровенной нищеты, поскольку, глядя на нее, я утверждаюсь в некоей мысли, кажущейся мне немаловажной: жизнь у всех складывается по-разному, но это — жизнь. И данное утешение годится и мне — отчасти по причинам личного характера, мне тоже не чуждо чувство вины, а также поскольку мы, живущие в явном достатке, в такой степени страшимся смерти и старости, что это вступает в кричащее противоречие со все увеличивающимися сроками продолжительности жизни и последними достижениями и чудесами медицины. Мысли эти роятся в моей голове, в то время как я, испытывая приятную усталость от обилия новых впечатлений, устраиваюсь с чашечкой чаю на крохотной площади в тени огромной акации. Не ощущается ни малейшего дуновения ветра. В воздухе застыла расслабляющая послеполуденная жара. Несколько ребятишек затеяли игру в шары. Какой-то человек таскает в грузовичок овощи. И хотя я отчасти ощущаю себя объектом наблюдения, ибо находящиеся выше на горе с легкостью могут, сами оставаясь незамеченными, следить за мной, все так долго мучавшие меня беды постепенно как будто отступают на второй план.
Вернувшись в отель поздно вечером, я принимаю освежающую ванну и осторожно обрабатываю рубцы и гематомы на теле. Меняю пластырь на глубоком разрезе на правой руке и переодеваюсь. Затем открываю окна в комнате и несколько мгновений наслаждаюсь ароматами черной, как уголь, ночи, слушаю стрекот цикад и доносящиеся из города незнакомые звуки. Внезапно у меня появляется острое желание выпить.