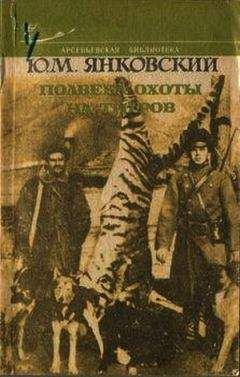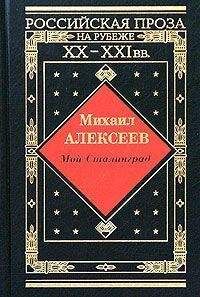Юрий Черниченко - Хлеб
Мороз сильный: вдохнешь — в носу смерзается. Значит, больше тридцати, но занятия в школе не отменили, — значит, меньше сорока. Солнце встает люто-красное и приплясывает на горизонте, словно согреваясь. Рождественка — эскадра миноносцев, каждая труба салютует светилу колонной витого дыма. В следы на снегу налита синева.
Слежавшийся снег — это ксилофон: поглубже сугроб — звук от шага басовитый, помельче — скрип высокий, заливистый. Скрип-скрап-скруп. Замечаю эту веселую музыку и петляю, как заяц.
Но по другую сторону дороги мужики моей бригады готовятся в поездку — нажаривают мотор ЗИЛа ало-черным костром, будто грешника в аду. Одергиваю себя — еще подумают что о начальстве.
— Бригадир, так до района ты с нами? — кричит Гошка.
— Да, заводите, я быстро.
Стужа стянула горло колодца ледяной спазмой, ведру не пролезть. Опускаюсь по цепи, прорубаю ход: звеньк, звеньк!
Эти годы я был охвачен скворчиным чувством. Здорово вкалывал, пока жить мы стали не хуже людей. Но не этого Таня от меня требовала. Я должен быть лучшим из виданных ею людей!
Оказалось — я особенный. Честный, волевой, справедливый и все такое прочее. Не то что мне все по плечу — до иного я не дозрел, но уж конечно дозрею. Это и опровергать было невозможно, потому что об этом не говорилось. Но я мог себе представить, что она руки на себя наложит, если я вдруг проворуюсь или, допустим, сбегу с целины. У меня, понимаете ли, предназначение. Никакие чины, должности не подразумевались, это я угадывал. Иногда мне казалось, что она чудовищно честолюбива. Ей подай то — сам не знаю что! Готова пропустить меня через самые тяжкие жернова. Я волен все решать сам, не смею только повредить ее представлению обо мне!
Плата за все — она сама. Удивительно хорошеет, когда у меня что-то ладится. Но вот затор, серия невезений — и она вся съеживается, превращается во вздорное, злое существо. Никаких жалостей и сочувствий! Хочешь, чтоб было легко в доме, — добейся, одолей, вылезь из кожи!
С ведрами в руках спрашиваю ребят:
— Завтракали?
— Борис доедает, — отвечает шофер Сергей Нинкин, — Ты скорей, Виктор Григорьевич, а то еще путевку надо… Председатель на месте?
— С вечера надо было. Я сейчас.
Среди кухни — корыто, на плите — выварка с бельем. Танюшка, в моей рубахе, тут же, на краешке стола, кончает проверять тетради. У ног ее Колька, майстрячит что-то из моего резерва запчастей.
— А знаешь, сын-то сочинитель! Дивный стишок придумал. Лапонька, расскажи папе про ручеек.
Сын с готовностью забубнил себе под нос, Таня перевела:
Ручеек течет капустный,
А в нем рыбки плавают,
И сказали мышки грустно:
«Мы домой из плаванья».
— Деда Нестера влияние. — Я палкой достаю белье из выварки. — Ручейки, тени-сени. Преобразование природы.
— Ладно, залей водой и оставь. Я приду — выполощу. Ой, мне уже двадцать минут.
Снимает рубашку, я беру худенькие ее плечи.
— Во-о, нашел время! — выскальзывает, — Сына понесешь — закутай. Господи, что б мы без бабы Нюры делали! Ты не забыл про именины? Обязательно найди что-нибудь в раймаге.
— Только об этом и думаю! Экзамен — пустяки! — завожусь я.
— Не склочничай. Ты у нас главный, с тебя и спрашиваем.
— Какой там, к черту, главный — всеобщий слуга.
— Помолчал бы, калека. Мы игрушек у тебя просим? А шубу цигейковую клянчим? Спасибо сказал бы, что молча мерзнем. — Она переодевается к школе.
— Ты смеешься, а я возьму и брошу все к едрене-фене. Не больше всех нужно, — говорю, собирая Кольку.
— Ну ладно, поплачься, — шутливо гладит по голове. — Бабка Гамаюниха придет. Насчет пенсии за старшего.
— Час от часу не легче! У тебя совесть есть?
— «Жена мужу — зеркало», — цитирует бабу Нюру, целуя меня. — Не волнуйся. Я все время думать буду.
А пальтишко ее впрямь истрепалось. Да где достанешь цигейку — и на какие шиши?
* * *
— Двигайтесь, раскормили тут вас, — уплотняю я ребят, хотя и так непонятно, как Борис, Гошка, я и Сережка-шофер уместились в таком теремке.
* * *
У конторы тормозим.
Председательская комната теперь оклеена веселенькими обоями, вместо старого бака — титан, теперь уж портрет Хрущева над столом. Председатель Николай Иванович, наш тридцатитысячник с Магнитки, понуро в трубку:
— РТС… РТС… алло, РТС… Не дозовешься проклятиков. — Кладет трубку, — Опять трубы перехватило, второй день коровы не поены. Попробовали б они у меня в цеху так утеплить — руки б выдергал. Ну, едете?
— Путевку, Николай Иванович, — Сергей.
Подписывает путевку.
— Старший кто, Бакуленко? Значит, получаете два ДТ. Новых! Сразу же подтяните гайки, они на живую нитку. К полночи вернетесь. Воду не забудьте слить.
— Командировочные, — напоминает Гошка.
— Охо-хо, с этими разъездами, — вздыхает председатель, но все же стучит кулаком в переборку. Заглядывает бухгалтер. — Выпиши этой паре по тридцатке.
Остаемся вдвоем. С председателем мы ладим. Конечно, начальства он побаивается, но и с нами, бригадирами, старается отношений не портить. Хочет одного: скорей вырваться отсюда.
— Ну, сдашь? Скорей бы кончал. Хомут тебе готов, а по мне цех скучает.
— Хомут не по моей шее, Николай Иваныч.
— Испытаем… С планом сева не тяни, надо утверждать.
— Как хотите, а в поле «за дедом Мухой» сеять пшеницу больше нельзя, овсюг заел, намечаю под пар.
— Мил человек, как же я проведу столько паров? Ты и Овечий занял травой.
— Овечий считать нечего, там не земля — порох.
— Подведешь ты меня под монастырь, Казаков. Узнают — а-та-та-та, — показывает на кулаках, как нас разотрут.
— «Хозяйство вести — не штанами трясти», как Шевчук говорит.
— Шевчуку теперь говорить можно, а нам — гляди да гляди. Вот ты в промышленности не работал. Там кто скомандовал, с того и спрос. Здесь же ценные указания дают кому только не лень, отвечает всегда колхозник — ремешком. Идиотизм деревенской жизни.
Заглянул в дверь Бакуленко. Я поднялся.
* * *
Ребята довезли меня до райкома — единственного двухэтажного здания нашего райцентра.
Борис, ты там гляди — ни на понюх, — строжусь я на всякий случай, — Приедете — стукнете в окно. А может, я у Шевчука буду. Счастливо, мужики.
— Ни пуха ни пера, Григорьевич! — кричит Сережка.
— К черту!
3
Вестибюль райкома. Все как положено: стенд «Догоним Америку по производству молока!», буфет с колбасой и карамелью, в углу у батареи тетки греются, ожидая попутной машины. Объявление: «Вниманию заочников СХИ! Прием экзаменов — в библиотеке парткабинета».
Под дверьми гуртуется-волнуется наш брат заочник: учетчики, бригадиры, народ в валенках, ватных штанах, рослый и сытый, на студентов мало похожий.
— По чему больше гоняет? — спрашиваю знакомого.
— По травополью: в чем вред.
— Вали на Вильямса, — острит кто-то.
— Так ведь — линия, — объясняет первый, — он же не сам. Он простой.
— Казаков тут есть? — подходит к нам девушка. — Вас ищет товарищ Сизов из обкома. Мы в колхоз звонили…
— Где он?
— Наверху, в той комнате, знаете? Да вы сдавайте сперва, я доложу.
— Ну, хлопцы, пускайте без очереди, из обкома ждут.
* * *
Верно, Плешко — простой. Отвечаю ему, самому директору института, главе всей областной науки, и робости нет. Симпатичен, располагающе грубоват, кивает на мою скороговорку про то, что…классический плодосменный севооборот, или норфольское четырехполье, состоит из пропашного ярового, клевера и озимого, но порядок полей может меняться в зависимости от того, под озимое или под яровое подсеивается клевер…
— Будет! Зубрил на совесть, видать. Зачетку… Так где работаешь?
— В Рождественке, бригадир.
— Я сам с бригадиров начинал. Хорошее было время… Ну, похвались, Казаков Виктор Григорьевич, какую структуру посевных площадей будешь иметь весной?
Мне охота поделиться с ним — ведь ученый, а не погоняла-уполномоченный, поймет.
— Правду говорить?
— Ну, бреши, если привык, — усмехается.
— Да нет… Понимаете, мы в бригаде из севооборотов выбились, никакого вообще. Зарядили пшеницу по пшенице и — завшивели.
— Что-что?
— Овсюг душит. Одно поле — Овечий бугор — пришлось залужить: эрозия, прямо темно, как метет. Процентов двадцать хотим оставить под пар, столько ж под кукурузу, остальное — зерно…
— «Остальное»! Под зерно — «остальное», а? На хрена они вам сдались, эти пары? — прерывает он, и простота его начинает казаться мне хамством.