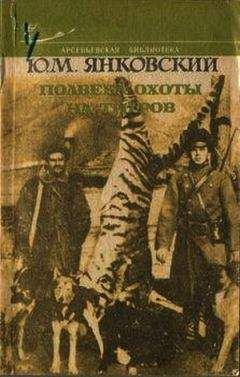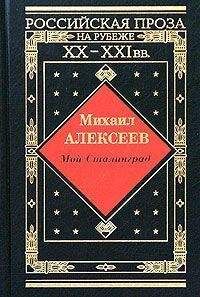Юрий Черниченко - Хлеб
— Здорово, мужики, как живы-дюжи? — приветствует нас.
— Как вчетверо паутина, — отзывается Ефим, — Загораем, на три комбайна один «газон».
— А пятьсот гектаров уже убрал, а? Молодцом. Вам переходящий вымпел от райкома комсомола. И в газету, само собой, — Вадим выбрал лучший флажок, подмигнул: «По знакомству».
— Та-ак, значит, — целинный агрегат комбайнера… Как твое фамилие? — спросил фотограф Ефима.
— Я не целинник. То вот они.
— Ну, тогда отойди в сторонку.
— Э, брат, ты нам воды не мути, — вмешался Вадим. — Голобородько — в центр! И гляди веселей. Поздравляю, ребята, — так держать! Не выдавать своих.
— Вот спасибо, — поблагодарил Ефим за флажок, — а то шофера не видят, что ли. — И полез заменять рубаху кумачом.
— Что нового? Забыл, когда газету видел, — говорю Вадиму.
— Еремеева в обком берут, — отвечает. — На сельхозотдел.
— Значит, и тебя?
— Не хотел бы отрываться от живого дела. — По его тону я понял, что перевод предрешен. — Ты в институт-то оформился?
— Заново подал. На агрофак.
— Чего ж два года терять?
— Надо ж самому разобраться. Неохота попкой быть.
— Валяй разбирайся, — как о баловстве сказал он. — Тебя с пополнением, или рано?
— Ждем пока. Не заедешь ведь, большим начальством стал.
— Пока у Шевчука жил — неудобно было. Дом-то нормальный?
— Сборно-щелевой. Рядом с Шевчуком поставили.
— Как он, кстати, опекун твой?
— Вон сад закладывает, — показываю на низину у речки, там трактор и люди, — Сходил бы, он старик ничего.
— Это ему ко мне идти надо. Хлеб — вот он!
— Не уезжай, я сейчас приведу его! — Меня угнетало, что два близких мне человека в странной вражде. Побежал к Шевчуку.
Нестер Иванович с тетей Нюрой прикапывали саженцы.
— Нестер Иванович, там Вадим, спрашивает о вас. Пошли б, а?
— Так вон ты зачем…
— Хлеб-то вырос! Разве плохо снять два-три урожая, пусть и песок?
— Если два-три, так на хрена ты дом ставил? Еще и пацана затеяли. Это с заглядом-то на три года! Не пойду, некогда.
Я поплелся полосой.
— Обожди, — окликнул он меня и тоже вошел в хлеб. Сорвал колос. — Что это?
— Пшеница «мильтурум».
Он положил колос меж ладоней и потер — тот пополз точно вперед.
— Своя линия, с дороги сойти не может. А вот овсюжок. — Нашел метелку овсюга, растер ее в ладонях — черные зерна просыпались сквозь пальцы, — Живут вместе, а природа разная. И не смешивай.
— Так ведь — читали последние работы? — одно в другое переходит, — отбиваю его аргумент. — Овес — в овсюг, пшеница — в рожь, наука!
— Блуд то, а не наука! — Повернулся и пошел к саду.
* * *
Вам не доводилось лежать в кузове, полном пшеницы, и глядеть в небо? Удобней дороги нет. Над тобой кобчик висит, скосишь глаз — бархан, точно в пустыне. Янтарный, песок этот можно жевать, пока во рту не образуется упругий комок вроде резинки. Взял с собой «Фитопатологию», да что-то не читается, подложил под голову.
Везу в узелке миску с варениками, банку сметаны: тетя Нюра передала в роддом. У элеватора соскочил.
К Тане не пускают, но можно поговорить через стеклянную дверь. Она стесняется — не услышали бы в палате, говорит тихо, но я все понимаю.
— Он никак не научится есть. Хлебнет разика три — и отвалится.
— Освоит. Я угля привез, не волнуйся.
— Знаешь, теперь он мне дороже даже тебя — не сердишься?
— Как все здорово обошлось, — счастливо вздыхаю я. — А у меня чего-то не клеится.
— Устаешь? А теперь он будить будет, учти.
— Нет, как-то нету интереса. Они все дерутся, а при чем я? Из-за тебя б схватился, а из-за мутаций…
— А может, ты работать не умеешь? — спрашивает встревоженно.
— Ага, не умею. Гору хлеба получил, к весне трактор сулят.
— Ну, это на время.
— Ясно, через год назначат министром. Соку принести?
— Ты нас только люби, ладно?
Принесли кормить детей. Таня подносит к стеклу сверток с чем-то красным сверху. Шлет поцелуй от себя и от губ того, кто в свертке.
* * *
Ночью в моем «сборно-щелевом» уже холодновато, приходится набрасывать на плечи ватник. На кухне только стол, табурет, пара ведер, за печкой ссыпана пшеница. Тихо, один сверчок, сельский метроном… Нет, когда влезешь в середку, становится любопытно. Заварил чефирчику — сегодня просижу до петухов.
За окном — лунная ночь, ветряк, степь. Пейзаж пустынный, как теперь говорят — «космический». Ничего лишнего. Познание.
ГЛАВА ВТОРАЯ. 1959 ГОД
1
В одном из первых декретов Советской власти, подписанном Владимиром Ильичем Лениным, задачей организаторов земледелия объявлено «создание условий, благоприятствующих росту производительных сил страны в смысле увеличения плодородия земли…».
Так определен долг агронома перед государством и народом.
Копить плодородие на целине, где едва початы тысячелетние его запасы? Да! Наращивать богатства почв для будущего — единственный путь получать большой хлеб сегодня.
Расценив освоение целины как явление мировое, наши ученые изучили долголетний опыт канадских прерий, где природа схожа с сибирской. В зерновые провинции Канады выехал директор Всесоюзного института зернового хозяйства Александр Бараев.
После губительных пыльных бурь канадцы именно безотвальную вспашку сделали основным способом исцеления земли. За четверть века эрозия была погашена. В прериях широко применяется чистый пар, под него отводят тридцать — сорок процентов пашни, сборы зерна растут.
Там испытанная еще до распашки целины система колхозного ученого Терентия Мальцева была дополнена культурой сохранения стерни. Уже не вековая дернина, а стерневая щетка послужит почве броней. Двести былинок на квадратном метре — и эрозия будет близкой к нулю даже в сухой год. Зимой снег остается на поле. Институт зернового хозяйства стал создавать комплекс почвозащитных орудий.
Подлинные законодатели полей не сулили даровой победы. Они спешили, говоря словами Василия Докучаева, «выработать вновь, непременно в связи с местными условиями, подходящие технические приемы, без которых, конечно, немыслимо никакое производство, а еще больше — такое сложное, как сельское хозяйство». Новый пшеничный цех государства они строили современно, фундаментально, на века.
Но на их пути встали субъективизм, администрирование. Сверху насаждался шаблон, единообразие в приемах. Агрономам командовали, когда, где и как сеять, технологов зернового дела превращали в бездумных исполнителей. Преследовалась, в сущности, одна цель — засеять все «под завязку». Для бюрократа это самый простой путь доказать, что «резервы — в деле». Отсеяться как можно раньше и отрапортовать — еще один способ проявить рвение. Благие намерения администратора — оправдание крайне слабое, ибо мобилизация ресурсов была мнимой, за урожай никто не отвечал, как и за здоровье земли. Распашке непригодных массивов, ликвидации паров, трав нужно было придать вид наукообразности — и в противовес научной линии возникла так называемая «пропашная система» Алтайского института сельского хозяйства. Она обещала рост сборов только за счет «правильной структуры». Усиленная выкачка почвенного плодородия вводилась в правило. Отвал служит под Курском и Горьким, так почему он вреден Кулунде? Оба фланга целинного земледелия — «сорняковый» и «ветровой» — оставались открытыми.
«Нигде увлечение односторонней точкой зрения, — писал Климентий Тимирязев, — не может привести к такой крупной неудаче, как в земледелии». Череда засушливых весен эрозии помогла. Пашня в районах легких почв стала сокращаться.
Не дремал и овсюг. Стоит пять-шесть лет посеять пшеницу по пшенице — и пахотный горизонт насытят семена сорняка.
Спор двух направлений перестал быть просто научной дискуссией. Он становился борьбой общественной, борьбой мировоззрений. Узок был круг защитников плодородия, им приходилось отбиваться от самых нелепых обвинений, но стояли они мужественно. И та и другая школа искала поддержки в широких слоях хлеборобов.
Знание становилось главным оружием.
2
Январское утро. Таня перед школой затеяла постирушку и посылает меня:
— Папка, давай воды полоскать.
Надел полушубок, взял ведра, топор.
— Только давай по-быстрому. Сам Плешко принимает экзамен.
— Сдашь, с вас там и спрос…
Открывает мне обитую мешковиной дверь — и сыну:
— Коля, отойди от холода! Да скоренько, копуша.
Сын подбирает игрушки-подшипники, облако пара скрывает его.
Мороз сильный: вдохнешь — в носу смерзается. Значит, больше тридцати, но занятия в школе не отменили, — значит, меньше сорока. Солнце встает люто-красное и приплясывает на горизонте, словно согреваясь. Рождественка — эскадра миноносцев, каждая труба салютует светилу колонной витого дыма. В следы на снегу налита синева.