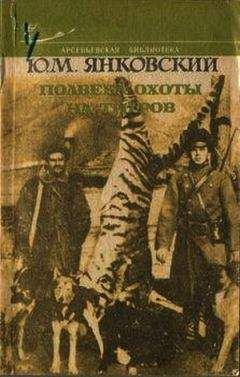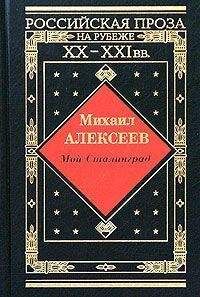Юрий Черниченко - Хлеб
Я хотел поднять старика. Он плюнул мне в лицо!
— Слушай, старик, ты у меня на дороге не ложись, — отчетливо сказал ему Вадим. — Я перешагну и дальше пойду, а ты наплачешься.
— А-а, хай воно сказиться! — взревел Борис. — Яка ж то работа, як люди пид трактор кидаются?
Работа была сорвана. Вадим взобрался на коня.
— Гуляйте пока, ребята, а я в райком отлучусь.
* * *
У колхозной конторы — три «газика». Безлюдно, тревожно. Я было вошел, но парторг тотчас выставил меня на крыльцо: — Чего тебе? Нельзя. Выездной райком.
— Насчет Шевчука?
— Ну.
— Так я ж там был, могу рассказать.
— Там ваш Сизов, доложит. Заварили кашу… Давай в бригаду, нечего.
Обхожу угол, стал у окна, форточка открыта. Сквозь двойные рамы судилище видно мне плохо.
— Антицелинные настроения ломать будем нещадно, — голос Еремеева. (Черт, радио на столбе мешает слушать!)
— Ветроударные склоны трогать нельзя, — голос Шевчука.
— Вы слышите? Тут склон, там солонец, где-то выпас… Нет, на этом примере мы должны научить кадры, а то район поплатится…
Форточку закрывают, окно задергивают шторкой.
Я человек маленький, меня не спрашивают, мое дело — «в бригаду».
* * *
На следующий день районная газета сообщила, что «правление колхоза «Новый путь» и его председатель Шевчук Н. И. недооценили важности распашки новых земель и поставили под угрозу срыва обязательства целинной комсомольско-молодежной бригады, что вызвало законное возмущение целинников».
— Яке так «возмущение»? — пожал плечами Борис, — Ну, полаялись, так хиба ж можно…
Читаю дальше:
— «Председателя колхоза «Новый путь» тов. Шевчука Н. И. за антицелинные действия с работы снять. Объявить ему строгий выговор с занесением в учетную карточку».
— Не плюй против ветра, — резюмировал Гошка.
М-да, к севу на бугре бригада приступала вовсе не в том настроении, что к пахоте.
— Ты-то чего хандришь? — сердился на меня Вадим, — Жалко старого истерика? Забыл его плевок?
— Больно круто. Значит, и возразить не смей. Он же тут жизнь прожил, что-то знает.
— В каких-то вещах — не смей! А то не целина будет — дискуссионный клуб. В другое время с ним бы не так, а сейчас — садоводом сделали, по делу и дело. Нечего нюнить!
А в середине того дня Овечий бугор впервые показал нам, на что он способен.
По пахоте пошли колеблющиеся столбы пыли. Ветер усиливался, солнце стало меркнуть, дышать было все труднее. Черная буря!
Заметало след маркера. Тракторист не видел пути. А через полчаса наступила мгла, какую не пробивали и включенные фары.
Ефим Голобородько первый подался на край полосы, выехал к заправке. Подбежал Вадим.
— Кулундинский дождик! — крикнул Ефим, — Надо по домам.
— Работать надо! Ерунда, сейчас утихнет.
— Да темно, хоть глаз коли! Как сеять?
— Как? А вот так!
Вадим сломал о колено свою сажень, намотал на палку ветоши, смочил горючим, поджег (все это быстро, в лихорадке, чтоб удержать нас) и с факелом в руке побежал по пахоте, указывая след. Его валило с ног, он кричал что-то нам, стоявшим в недоумении, — и так силен был запал, что Ефим решился, тронул. Я прыгнул на подножку сеялки.
Видно, наш комиссар решил отвоевать нас у Шевчука, чего бы ни стоило, хотел опровергнуть предсказанье степняка, силой попирая силу. Что ни говори, а он делал гораздо больше того, чем мог даже сам! Я гордился этим парнем!
Мы уже досевали, когда о гаснущий факел Вадима ударилась и зашипела первая капля дождя. Для Кулунды это обычно: после черной бури — дождь. Нити осадили пыль, очистили воздух, и когда агрегаты выехали на край, было уже светло, вовсю лупил грузный, щедрый дождь, по нашим лицам ползли черные капли.
— Это ты их фитилем прижег, небесных канцеляристов, — сказал будто в похвалу Вадиму Ефим, — Но дня три подует такое — солярки не хватит.
— Значит, один дождь есть? — Вадим оставил без внимания намек. — Еще один — и твоего агронома…
Заржали хлопцы, как в тот раз.
— Вадим, залазь под крышу! — крикнул Сергей Нинкин, уступая ему место в кабине у Бориса.
— А ты куда ж?
— А я не сахарный! — В дурашливом восторге Сережка стянул через голову рубаху с майкой и бросился под дождь. Струи омывали его белое, гибкое мальчишеское тело, а он выделывал перед идущим трактором какую-то свою лезгинку и все орал:
Я не сахарный, ас-са,
Я не сахарный, ас-са!..
— Вот и посеяли, — вздохнул Вадим.
7
…И я впервые понял, что в сущности бездомен. С чемоданом и матрацем тащился по Рождественке.
На пороге своего дома сидел Шевчук. Точил садовый нож.
— Э, целинник, чего не здороваешься? Или у вас только с начальством положено?
Я подошел.
— Это я тебя тогда?.. Не серчай, то вгорячах.
— Нестер Иванович, мы не хотели, чтоб так вышло. И Вадим не хотел.
— А что я его не вижу, Вадима вашего?
— Его взяли в райком комсомола.
— Уже?
— Он и в Москве был на комсомольской работе…
— Куда ж вас теперь?
— В клубе пока будем.
— Хозяева, бить их некому, — возмутился Шевчук. — Надо ж вас по домам разобрать, что ли. Ну, ты пока заходи, заходи.
Я поставил чемодан на порог.
— Нюра! — позвал он. Вышла жена его, гренадерского вида тетка. — Вот друг-целинщик зашел. Пылюку в полях они развести успели, а помыться негде. Баню истопи.
* * *
Пьем чай на кухне у Шевчука. После бани на шее у меня, как и у Нестера Ивановича, полотенце. От меня пар валит, как от каменки. Тетя Нюра возится у русской печи.
— Нет, тут прожить дороже. Катанки тебе надо на зиму? Клади триста, — считает Шевчук. — Полушубок, шапку, рукавицы — еще шестьсот. Сапог две пары, если на механизации.
— А пропитаться, а яблочко ребенку? — добавляет тетя Нюра. — Женатый, поди?
— Нет.
— Холостой, выходит.
— Нет.
— Да как же это у вас? Разведенный, что ли? — удивилась она.
— Знакомая есть. Невеста, — Я впервые так назвал Таню.
— Да ладно тебе, следователь, — заступился Шевчук. — Иди сюда, Виктор.
Он провел меня за переборку. Комнатка в одно окно, кровать, крашеный ковер с замком и всадником, на скамейке — кадочка с китайской розой, любимым домашним цветком сибирячек.
— Сынова конурка. В училище, танкист. Можешь пока жить… Полистай, кое-что собрано, — сказал Шевчук, снимая с полки книгу. — Во, Тимирязев.
* * *
Таня сошла с поезда. Чемодан, рюкзак, тюк с постелью — вся тут. Перрончик полустанка пуст. Ждет-пождет — ни души. Подъехала походная мастерская, шофер забрал чей-то багаж.
— До Рождественки довезете? — спросила она.
— Садись.
— А далеко это? У меня денег мало.
— Я за любовь вожу.
Таня тащит вещи, они ей не под силу.
— Помогите. Мне тяжелого нельзя.
— Беда с вами. К мужу, что ли?
— Ага.
* * *
«Летучка» притормозила у дома Шевчука, шофер сбросил вещички — и был таков. Дома я был один. Выскочил — и обомлел.
— Витя, ты телеграмму не получил?
Мотаю головой.
— Вот бросила все — и к тебе.
— А… от станции как?
— Мне больше нельзя без тебя, Витя, — улыбается виновато, и я, холодея, понимаю — почему.
— Я ж писал, что жить пока негде, сам на сорочьих правах, — раздавленный происшедшим, беру ее вещички.
— Где ты, там и я.
Ввожу ее в каморку и только здесь целую в щеку.
— Я сейчас хозяйку позову. Не выгонят же, в самом деле!
Таня стала разбирать вещи. Заинтересованные событием подошли соседки. Молча стоят, спокойно изучают, с чем приехала. Самый придирчивый из таможенных досмотров. Таня от робости и закрыть чемодан не смеет.
К счастью, подоспела тетя Нюра:
— Приехала? А то Виктор все уши нам прожужжал: Таня да Таня…
8
Первый хлеб был обильным. Для нас, новичков, он был праздником, но таким, какой обязательно должен прийти, — как Седьмое ноября.
На Овечьем бугре пшеница стояла такая, о какой сибиряки говорят: «Густая — мышь не проберется, чистая, как перемытая, в солому хоть палец суй».
Я был штурвальным на стареньком комбайне Голобородько, буксировал нас Нинкин. Набрали бункер, а ссыпать некуда. Ефим останавливает:
— Зови машину!
Заученным движением поднимаю над комбайном шест со старой рубахой — немой призыв к шоферам.
Глядим — летит мотоцикл. Вадим в районной униформе, в защитных очках неузнаваем. В полевой сумке — флажки. Сзади примостился фотограф районной газеты, при нем аппарат на первобытной треноге.