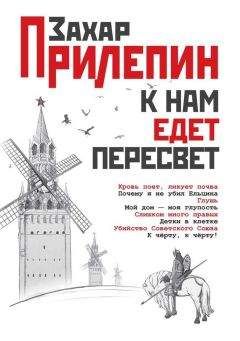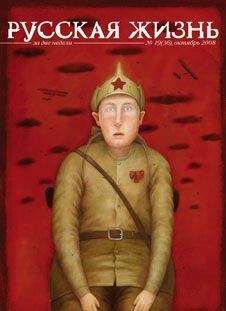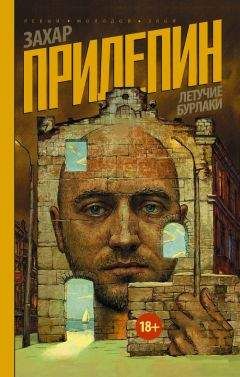Захар Прилепин - TERRA TARTARARA. Это касается лично меня
Так вот, все, что мы краем уха слышали, — все правда. Упрямые, жесткие, честные солдаты. Чего они так долго не могли построить свою государственность, я даже не понимаю, а в музее этого мне никто никак не объяснил. Я только видел гравюры, где изображено, как во времена Ивана Грозного русские ратники расстреливают из арбалетов латышских женщин и детей. А где мужчины-то были?
Вечером мы выступали совместно с латышскими поэтами, которые сочиняют, между тем, стихи на русском языке, правда, без рифм. Ну, и русские сегодня тоже не особенно рифмуют, у нас эпоха верлибра, рифмовать в падлу.
С нашей стороны была без обиняков королева слэма Анна Русс, тут вообще особо ловить было некому, но местные не сдавались, тоже жгли как могли, танцевали, приседали и немножко подпрыгивали. Смотрелось иногда трогательно, иногда брутально, к тому же латыши вообще красивые люди, особенно красивые у них женщины, таких, помните, как у Довлатова, даже в московском метро не часто встретишь. А там — ничего, ходят себе по улицам, высокие, как температура.
И вот мы в компании с поэтами и с этими женщинами отправились на финальный званый вечер в честь русских писателей. Такие приемы, надо сказать, случались ежедневно, и кормили на них так, как в России не кормят нигде.
— В России фуршеты кончаются, а здесь нет, — философски заметила Анна Русс, и это было чистой правдой. На фуршетах были бессчетные разноцветные рыбы и разномастные грибы, мясо и фрукты, невыносимо разнообразный алкоголь в таких количествах, что мы ни разу не смогли его допить, что поставило под сомнение миф о русских писателях, которые моря переходят, не закусывая.
Но в последний вечер все было вообще за границами здравого смысла.
— Слушайте, вас всегда тут так кормят? — спросил я у латышского поэта.
— Нас вообще здесь никто не кормит, — ответил он мрачно.
— А что ж сейчас происходит такое?
— А русские приехали — иначе и не может быть.
— Здесь что, так страстно любят Россию? — спросил я возбужденно. Поэт посмотрел на меня почти иронично.
— Втайне все считают, что русские — уроды, — ответил он просто. Я помолчал секунду, отчего-то польщенный.
— А зачем тогда кормят?
— Иначе с русскими нельзя.
Надо ли мне говорить, что во мне все заклокотало от великорусской пьяной гордости после его слов? Вот-де мы какие! Ур-ро-оды! Зато нас кормить надо! А если мы бабу попросим? А? Вот эту, за барной стойкой?
Потом я протрезвел, конечно, чего желаю и всем русским вообще.
Я думаю, что поэт несколько преувеличил. У поэта в глазах вообще должны стоять увеличительные стекла, и между стеклами рыбки плескаться.
И мы не уроды, и они — в глазах русских — тоже вовсе нет.
Сами латыши, когда говорят, что Россия вот-вот их захватит (а они говорят — столь же часто, как мы о стабильности), знают, что все это ерунда. Ну, как наша стабильность. И мы, когда, кривясь, что-то пылим по поводу Прибалтики, тоже внутренне давно остыли. Развлекаемся просто, чтоб о самих себе не помнить, а возбуждения при этом никакого.
Оттого что — все, разошлись как в море корабли. Теперь можем ездить друг к другу в гости. Их Сиськин нам не помеха. А если у нас свой Сиськин заведется, то мы ему тоже в морду дадим. И потом накормим гостей. Вовсе не потому, что они уроды. А потому, что нам есть чему у них поучиться и есть чему их научить. Отличное начало для новой жизни.
ШЛИ ПОЭТЫ ПО ЭТАПУ, ПО СИБИРИ-МАТУШКЕ
Литераторы все время хотели спать.
Но они не подавали виду и только смотрели на мир мрачно, как положено всякому русскому сочинителю.
Маршрут литературного экспресса «Москва-Владивосток» был разделен на четыре этапа: Москва- Екатеринбург, Екатеринбург-Красноярск, Красноярск-Чита, Чита-Владивосток.
О том, как прошли по этапу иные литераторы, ничего не скажу. Отвечаю только за свой путь. Мы ехали от Красноярска до Читы; дорога заняла, кажется, шесть дней, хотя точно поручиться за это не могу. За месяц специальный прицепной писательский вагон пересек 16 регионов, около сорока писателей провели более двухсот встреч, раздали бессчетное количество автографов, увидели и полюбили свою страну, и страна увидела их; но полюбила ли — это мы когда-нибудь позже узнаем.
До Красноярска мы добрались по воздуху: вылетели из Москвы поздно ночью, приземлились утром, поспать не очень удалось, и вскоре началась стремительная культурная программа.
Нас было немного. Писатель и критик Павел Басинский, из-под очков поблескивали строгие и одновременно лукавые глаза. Наше все Дмитрий Быков.
Дмитрий Новиков из Петрозаводска, большой и наблюдательный. Детские писатели Эдуард Веркин и Сергей Георгиев, держащиеся несколько поодаль от недетских писателей. Прозаик, эссеист Игорь Клех, спокойный и умный. Живые классики Евгений Попов и Леонид Юзефович. И я.
(Должен был наличествовать Веллер, но он заболел.)
Красноярск был чист и свеж, прохладная щекотка забиралась под воротник.
Мы увидели Енисей, Енисей потряс нас. Волга — не река, запальчиво понял я, живущий на Волге. Енисей — вот река.
Мы съездили на родину Виктора Астафьева в Овсянку; не уверен, что строгий старик был бы счастлив видеть всех нас, но что делать — мы пришли и бродили по дворику, где совсем еще недавно жил великий писатель земли русской; и там такой трогательный памятник стоит — где Виктор Петрович с супругою сидят возле домика своего на лавочке, оба как живые. Очень понравилось.
Особенно понравился экскурсовод, который предупредил писательский десант, что-де Виктор Петрович строгий был, поэтому вы уж тут матом не ругайтесь возле могилы, водку не пейте. Как говорится, спасибо, что предупредили. Так бы никто не догадался.
После Овсянки, вдохновленные, мы разъехались кто куда: один в библиотеку, второй в книжный магазин, Евгений Попов в Большую Мурту, Дмитрия Быкова вывезли на берега Енисея, в Дивногорск, а я попал в закрытый город Железногорск.
Там, в центральной библиотеке, ожидал меня полный зал ясных, светлых, щедрых и бесконечно обаятельных людей. Мы разговаривали два часа, а потом еще долго фотографировались на улице. Сердце мое ликовало.
Встретившись по возвращении в Красноярск со своими коллегами, я обнаружил, что счастливы были все: Сибирь и сибиряки овладели писательскими сердцами легко и полновластно.
Утром на красноярской платформе мы встречали второй этап «Литературного экспресса», шедший из Екатеринбурга к конечному своему пункту. Ехидно посмеиваясь, мы представляли, как сейчас из поезда, едва откроют дверь, начнут выпадать глубоко похмельные, не похожие на самих себя, растерявшие за неделю вещи и достоинство литераторы. А тут — видеокамеры, хлеб-соль, девушки в кокошниках. То-то позор будет. Но наши трогательные ожидания не оправдались.
Ловко спрыгнул, ни на ком особенно не фокусируясь, подтянутый Владимир Сотников, писатель и сценарист. Вышел в свой дневной дозор Сергей Лукьяненко, самый известный фантаст в мире после Стивена Кинга.
— Здравствуй, Сергей! — сказал я бодро (мы знакомы). Но Лукьяненко прошел мимо, неся на лице привычное свое выражение умиротворенности и внутреннего покоя. Я не стал нарушать этот покой. Тем более что он прошел не только мимо меня.
Зато писатель Роман Сенчин меня узнал, он был первозданно свеж, взор его лучился, и полный белых зубов рот улыбался. Я не верил своим глазам.
— Рома, отчего вы так хорошо выглядите? — спросил я зачарованно.
— Сухой закон, — ответил Рома спокойно, улыбаясь одними глазами. Я не поверил, конечно; но сомнения остались.
И тут же нам пришлось расстаться: наш «литературный вагон» уже отбывал в Иркутск. Стремительно загрузились и отчалили.
В поезде мы надеялись обнаружить непоправимые следы писательского пребывания, вроде надписей, ржавым гвоздем нацарапанных на стене возле кровати: «Здесь жил и страдал Роман Сенчин» или, например: «Лукьяненко — лучший» (без подписи). Но надписей не обнаружилось. В поезде царил идеальный порядок.
Зато я нашел в своем купе отличную, чуть ли не ручной работы, деревянную кружку, видимо, подаренную кому-то из наших предшественников. Так что, если кто-то из писателей потерял эту вещь, знайте: она у меня, и я вам ее не верну.
В каждый последующий город мы прибывали в 4.30 или в 5 утра. Писателей немедленно поднимали и высаживали на улицу, где шел редкий снег и нежно похрустывали лужи.
«Ночь в пути — день в работе» — таков был девиз нашего путешествия. Нам было сложно, не скрою. У нас не было сухого закона, младшая часть писательского десанта его немедленно отменила. Отмена прошла легко и с куда большим пониманием значимости события, чем, скажем, отмена крепостного права в свое время.
Далеко за полночь, с трудом, как на вечную разлуку, расставаясь, мы разбредались по купе. Казалось, что спустя три-четыре часа нас не сможет поднять и метеоритный дождь. Сам я, впрочем, поднимался через два с половиной часа и по старой нездоровой привычке убирался в купе и заправлял кровать (что приводило в некоторое даже бешенство моего соседа, открывавшего всклокоченные мутные глаза и мрачно произносившего: «…Самое мерзкое, что можно увидеть… в это утро… это твою безупречную… твою офицерскую… твою заправленную постель…»).