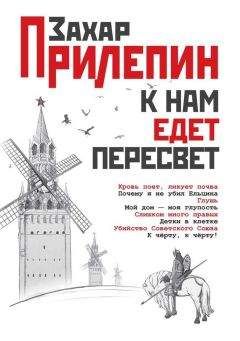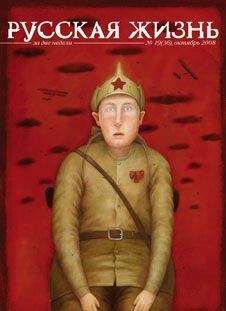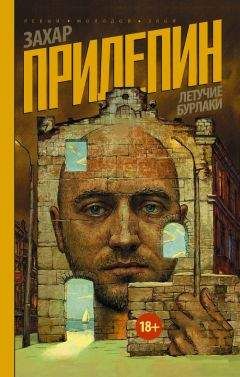Захар Прилепин - TERRA TARTARARA. Это касается лично меня
Я понял, что попал на золотую жилу, и немедленно отправился на программу к Андрею Малахову, которая, как говорят, является самой популярной среди российских телезрителей. Я подумал, что люди меня опять увидят и скупят новые тиражи моих книг вообще за день. Тогда мне выпадет счастье получить большие роялти и купить милым моим детям много игрушек, так как себе я уже все купил, а детям еще не все, потому что им старые игрушки быстро надоедают.
Но после того как вышла программа Малахова, ни один, я вам клянусь, новый человек не зашел ко мне на сайт, чтобы узнать, что это за безволосое существо столь оригинально рассуждало с экрана. Ну и книги в магазинах как лежали, так и лежат.
То есть программу Малахова смотрят в пятьдесят раз больше людей, чем «Школу злословия», но моих читателей средь них нет вообще. В свою очередь, среди зрителей полуночной «Школы злословия» читателей у меня много, и я счастлив, что мы друг друга нашли.
Это я вам не к тому рассказываю, чтоб о себе поговорить. Это я просто на своем примере постиг некоторые принципы существования телевидения.
И сейчас нам придется называть вещи своими именами, потому что мы в своем кругу, который, как всегда, страшно далек от народа.
Интеллигентные люди, понял я, подобно животным какого-то редкого вида, либо не смотрят телевизор вообще, либо мигрируют в темноту, в сторону ночных программ. Во-первых, ночью никто не застанет интеллигентного человека за постыдным занятием просмотра телевизора (если только другой интеллигентный человек, лежащий под тем же одеялом). Во-вторых, ночью есть удивительная и редкая возможность посмотреть что-нибудь «нерейтинговое».
Но, думаю, и ночная лафа скоро завершится, потому что без рейтинга никуда, и если петросенко и степанян найдут свои сорок миллионов человек, готовых смеяться и ночами, значит, так тому и быть.
И хорошо, что так.
Телевидение уже сегодня стало очевидной приметой чего-то безусловно нечистоплотного, неопрятного, рассчитанного на людей со слабой способностью к анализу действительности и к мышлению вообще. Со временем привычка смотреть российское телевидение должна попасть примерно в один ассоциативный ряд с привычкой застегивать ширинку за
пределами туалета, красить волосы пергидролью в цвета первобытной пошлости, писать доносы на соседей, прилюдно читать книгу с названием «Фейсконтроль для Дездемоны» и впоследствии рекомендовать ее знакомым, верить в реальность существования авторов писем, публикуемых изданием «Спид-ИНФО», говорить «звонит» с ударением на первый гласный, «ложить» с любым ударением, ну и так далее, сами знаете, что я тут распинаюсь.
И не надо ничего запрещать. Надо, чтоб существовало пространство, куда можно уйти, оставив этот дурацкий, набитый подлостью и глупостью сундук пылиться в углу.
Но такого пространства пока нет.
«…А ПОТОМУ, ЧТО ОНИ УРОДЫ!»
У самого известного латышского националиста фамилия Сиськин. Вообще он Шишкин, но в латышской транскрипции буквы «ш» нет, посему пришлось Сиськиным ему доживать свой трудный век. Он тот самый Сиськин, что проходил по делу о взрыве памятника Освободителям. Трибун, крикун, ну и врун, не без того. Как водится среди националистов — полукровка, латыш только наполовину.
Сиськин, к счастью, в своей стороне оказался маргиналом, они его даже посадили, обнаружив террориста, как и следовало ожидать, в землянке.
В реальности в Латвии нет никакого такого фашизма. Так, по крайней мере, показалось мне на первый, скользящий, поверхностный взгляд.
В Риге русская речь слышна чаще, чем латышская. Несколько дней я бродил по кафе и магазинам, втайне надеясь, что вот сейчас меня откажутся понимать или отберут меню, или раздумают обслуживать. Не тут-то было.
Все меня обслуживали, все мне продавали, и бармены говорили на самом чистом русском, и вообще есть подозрение, что там одни русские повсюду. Ходят как дома.
Знаете, как там тепло на душе становится в магазинах, когда из подсобки один бодрый женский голос кричит с непередаваемой на письме интонацией: «Мань, а где мешки-то свалены? Мешки, говорю, где, Мань?» Так только в какой-нибудь рязанской деревне могут кричать. Даже в Москве так кричать не умеют.
Гостиница, куда нас заселили, располагалась напротив парка.
Выйдя на улицу со своим латышским знакомым, я спросил: «А где тот парк, где Санькя закопал пистолет, прежде чем убить судью?»
У меня есть роман «Санькя», там одноименный молодой экстремист приезжает в Ригу, дабы смертельно наказать судью Луакрозе, посадившего советского ветерана на 15 лет. Санькя закапывает ствол в парке, а потом раскапывает и, выпив для храбрости, отправляется на «мокруху».
«Где этот парк?» — спрашиваю, любопытствуя. Я в Риге никогда не был до того момента и судью не убивал, как некоторые предполагают. «А вот!» — отвечает знакомый.
Меня, оказывается, поселили ровно напротив этого парка, через дорогу. Едва ли с умыслом произвели со мной такое — чтоб я, как Раскольников, пошел во тьме на место преступления. Это, скорей, очередной случай божественной иронии: я очень часто замечаю, как нам подмигивают сверху. Что, мол, парень, ты до сих пор думаешь, что Бога нет? А вот я, опять тебе вешку поставил, чтоб не забывал.
Судья тоже, как выяснилось, жил неподалеку. Его действительно убили, из ППШ, в упор, и убийцу не нашли, хотя русский экстремистский след рассматривался всерьез.
ППШ, автомат Второй мировой, действительно вызывает приятные русскому милитаристскому духу ассоциации; и фильм «Брат» с продолжением отчего-то сразу вспоминается. Но вообще это оружие куда с большей вероятностью могло храниться у бывших латышских партизан, воевавших сами знаете против кого.
Так что еще неизвестно, что там сталось с судьею, кому он поперечен был.
Зато русский ветеран Кононов, герой, умница, железный старик, которого в Латвии долго мурыжили, в наш приезд украшал своей вовсе не старой, очень бодрой и оптимистичной физиономией первые полосы местных газет. Мало того что его, якобы участвовавшего в геноциде местных «лесных братьев», отпустили-таки из тюрьмы, он еще в Европейский суд подал, запросил несусветную сумму компенсации и теперь уверяет, что победа у него в кармане.
Нет, что вы ни говорите, а Латвия — страна свободная. В другом, может, понимании, в западном, — но и в этом значении тоже свобода кое-чего стоит.
На Книжную ярмарку, где я гостил, заглянул президент Латвии, высокий, вполне симпатичный внешне человек. Я хотел было сбежать, но меня поймали и вернули, представив главе Латвии как «будущего русского классика».
— Желаю поскорее им стать! — сказал президент и неспешно пошел дальше; охраны с ним было мало.
Тем временем мы отправились пить вино в местное, прямо посередь ярмарки, кафе, в компании с латышами (как русских кровей, освоившихся и обжившихся там, так и нерусских).
Пока я прикладывался к рюмке, в тридцати метрах от нас вновь образовалась знакомая фигура — президент куда-то шел далее, и за ним то ли два, то ли три охранника. И больше никого вокруг. Все сидели за столиками, и никто даже не оборачивался.
Я говорю:
— Вы это… чего вы это так? Вон ваш президент ходит, ау! Что вы тут свои котлеты потребляете? Если б в России шел президент по ярмарке, никто бы не смел есть, и вокруг него уже стояли бы толпы ликующих и обожающих.
— Мы терпеть его не можем, — ответили мне мои спутники. — Президента у нас вообще никто не любит. А чего его любить? Все производство стоит, половина Латвии уехала на заработки в Англию, цены растут втрое каждый сезон, а зарплаты далеко не теми же темпами поднимают…
— Ну так и у нас то же самое! — хотелось заорать мне. — И это ничего не меняет в отношении людей к власти!
Но я ничего не сказал. Только и делал, что зачарованно смотрел на одинокого президента, на которого почти никто не обращал внимания.
— Запад, — думал я. — О, Запад есть Запад… Восток есть Восток…
Принял увиденное к сведению и пошел дальше.
Заглянул между прочим в местный музей латышской военной славы.
Слава заключалась в том, что жителей этого, по сути, несчастного побережья поочередно били то немцы, то русские, то совсем какие-нибудь эстонцы, а еще чаще первые, вторые и пятые проходили сюда, чтобы посередь латышских земель сразиться друг с другом, но если кто из местных не успевал спрятаться, резво выскочив из своих деревянных башмаков, — ему однозначно не везло.
Лучше всего латыши воевали в компании с кем-то (ну, про латышских стрелков слышали все).
Так вот, все, что мы краем уха слышали, — все правда. Упрямые, жесткие, честные солдаты. Чего они так долго не могли построить свою государственность, я даже не понимаю, а в музее этого мне никто никак не объяснил. Я только видел гравюры, где изображено, как во времена Ивана Грозного русские ратники расстреливают из арбалетов латышских женщин и детей. А где мужчины-то были?