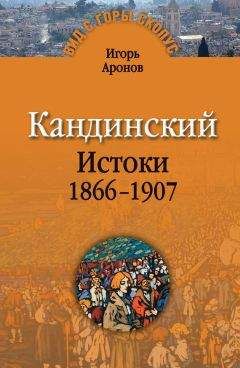Роман Тименчик - Что вдруг
(Татиана Остроумова)
Минимум деталей имеет своей мотивировкой тот тип видения, которое оставляет после себя в вербализуемом остатке именно метонимические фрагменты – сновидение. Так, в стихах Льва Гордона, написанных перед отъездом в Европу:
Мой Петербург, где умер Гумилев,
Где ночью люди говорят о Блоке…
И снятся мне у новых берегов
Твои горбатые мосты и доки.
Можно говорить об особой поэтике эмигрантского миража, который может быть немым и звуковым, и Петербург сравнительно с Москвой скорее беззвучен – вот вариации «Песни Миньоны» у петербуржанки Татианы Остроумовой:
Туда, где воздух чист и волен,
Где на булыжнике трава,
Где средь узорных колоколен
Расселась жирная Москва.
Туда, туда, где Питер четкий
Вонзил в луну блестящий штык,
Где близок ночью, сквозь решетки,
Дворцов таинственный язык.
Расписанное видение жанрово тяготеет к стиховому описанию картины, симптомом этого тяготения становятся словесные портреты конкретных петербургских картинок. Так, Вера Лурье, ученица Гумилева, вослед «Заблудившемуся трамваю», вводит в свое воспоминание вывеску «зеленной»:
И гуляют важные торговцы,
Наслаждаясь солнцем и весной,
Точно нарисованные овцы
С вывески соседней зеленной.
или вывески у Михаила Струве, тоже числившегося в учениках Гумилева (Гумилев говорил о Маяковском: «Не больше нашего Струве»):
Немудрые мелькают магазины.
Золоторогий бык и красной рыбы
Разрез на блюде с вилкой посреди.
Другие петербургские картинки берутся из интерьера – вот у того же Михаила Струве комнатка курсистки:
И над девичьей белой постелью,
Ни цветов, ни крикливых картин,
А «Сестра Беатриса» и рядом
Генрих Ибсен, Толстой и Куприн.
Или у него же – комната белошвейки
Ты кипятила кофей. Руки наши
Встречались, так был столик мал.
И только с карточки безумный Гаршин, —
Ты помнишь? – нас не одобрял
Петербургский поэтический текст вообще склонен накапливать и сводить в единый иконостас обозначения и переложения «картинок», обрамленных композиций – от ведуты (у Марии Веги: «И Петербург, стихи напевший мне, свернувшись, лег в гравюру на стене») до витрины:
Мощность Петропавловской твердыни,
Шпиль Адмиралтейства в облаках
И у Елисеева в витрине
Пара неуклюжих черепах!
(Г. Сатовский-младший)
Расстояние от витрины до петербургского окна не столь уж велико —
И в одном из кривых, из малых
Деревянных ее домов
Переплетный мастер Измайлов
Жил немало уже годов.
На нечистом окне и сером
Обозначено – кто живет,
И распластан там для примера
Синемраморный переплет.
(Михаил Струве. «Петербургская сторона»)
Где под окнами – скамеечка,
А на окнах – канареечка
И – герань!
(Николай Агнивцев. «В домике на Введенской»)
и, переходя от мещанских кварталов к фешенебельным –
Те пармские фиалки на окне,
Что выходило на Неву, завяли.
Их нет давно. И нет Невы….
Ну что же, вспомним зимний полдень, дом
И на паркете отблеск розоватый,
Неву в сияньи снежном за окном,
А между рам – стаканчики и вату.
И пармские фиалки у окна,
Махровые, бледней обыкновенных.
Как я любил их!
(Д. Крачковский-Кленовский)
Окно всегда являет живопись менее или более фигуративную:
Блестит окно в морозном чертеже.
(Михаил Струве)
О Рождестве, пушистом, рыхлом снеге,
О ледяных узорах на окне…
(Александр Перфильев
Сверкала на окне узоров льдистых вязь…
(Николай Агнивцев)
Ледяные розаны на стеклах…
(Георгий Адамович
Когда над снежною Невою
Закат морозный не погас.
Еще на окнах розовеет
Последний блик его лучей…
(Вера Булич)
Да солнца стрелы золотые
Дрожат на окнах, как в былые
Давно ушедшие года
(Павел Булыгин)
Аничков мост, Фонтанка, ряд карет
Дрожат в окне неясным отраженьем.
(Мария Вега)
(Заметим в скобках, что излюбленный оселок историософского сарказма, «окно в Европу», – не станем утомлять примерами из зарубежных ретроспективных упреков державному основателю – иногда совмещается с проемами прославленных персональных окон, как у Михаила Айзенштадта-Аргуса:
Окно – вы помните? – на целый мир, в Европу ли,
Бушует ветер, финский ледяной
Над темною громадою Петрополя,
Над всадником с простертою рукой.
В окно – вы помните? – глаза глядели всякие
На снег, на острова и на метель,
На мощные колонны Исаакия,
На мелкого чиновника Акакия
Почти что легендарную шинель.)
Петербургский поэтический эмигрантский текст, встающий в позицию самооглядки, берущий на себя обязанность резюмировать и сгустить традицию, усиливает тенденцию экфрасиса. Он не столько дает описание картины города, сколько описывает город как картину. Процесс перевода архитектурных пейзажей, или предположительных многофигурных полотен, или городских фотографий на язык ритмизованной речи содержит в своем механизме посредующие, промежуточные тексты. Это образчики жанров городской бытовой словесности.
К урбанистической малой словесности, устной и письменной, относятся – в порядке алфавита и весьма выборочно – афиши театральные («рассказ о влезших на подмостки», по дефиниции Маяковского), билеты пригласительные, библиотечные требования, вывески, домовые книги, классный журнал, меню, обложки книг, прейскуранты, путеводители по городу (вариант – устные объяснения, как куда пройти), расписание остановок городского транспорта (появляется даже семантика номера трамвая – «садись в трамвай, такой пустой, такой восьмой» – у О.Мандельштама, тот же маршрут у М.Струве – «Восьмой. Зелено-желтый знак. Скорее к прицепному»), реклама, речевки местных детских игр, траурные объявления и т. д.
Может быть, самые главные городские жанры назвал один из первых в поэзии русского модернизма истовых описателей повседневной столичной улицы. Петр Потемкин писал Иннокентию Анненскому (отвечая на не дошедшее до нас письмо, в котором Анненский утверждал, что импрессионизм не идет городу): «Я не согласен с Вами… в отрицании Вашем городской сказки. Мне даже кажется – не будь у города обманчивой фантастической личины, разгадай все его изнанку – рецепты да счета, – никто и жить бы в нем не стал»4. Все эти урбанистические тексты, рецепты да счета и прочее, прямо или косвенно, раньше или позже отражаются в стиховой петербургиане у эмигрантов. Напомним еще один жанр из этого разряда – список дел или перечень покупок:
Потом составлялся список,
И мамаша была строга:
У Зернсена сосисок,
У Бараковых – сига,
На Морскую в «Ниву» зайти,
Указать на неудобное положение,
Так как опять в пути
Где-то застряло приложение.
(Валентин Горянский)
В беженской мнемопоэтике различные списки сводятся во всеобъемлющий каталог, призванный перечислить «все»:
Я помню все – гранитные перила,
И Карповку, и путь на Острова;
Где муть залива солнечно застыла,
Где так душиста свежая трава.
И Летний Сад, и баржи на Фонтанке,
И грустный, затуманенный закат,
И в булочной румяные баранки,
Которыя так шелково блестят.
Весенние, прозрачные недели,
Подснежников густую полосу,
Сверкающие лужи на панели —
В душе я осторожно донесу.
(Анна Таль)
Реалии петербургского быта 1917–1921 годов вызвали к жизни новые фольклорные жанры, например, амебейные композиции споров в очереди. Очереди, быстро получившие наименование «хвостов» с последующей разработкой соответствующего метафорического ряда (непременная шутка тех лет о том, что Дьявол уже на подходе, ибо хвост уже виден), тоже предоставили свою риторику эмигрантской поэзии – у одного из эмигрантов в 1919 году:
Успокойте ваши нервы;
Что же вы там все орете?!
Вы в хвосте стоите первым,
Значит, первым и войдете.
– Бросьте вы; не рассуждайте:
Хоть и первым получаю,
Но зато, не забывайте,
Я и первым все съедаю.
(Михаил Миронов-Цвик).
Подведем некоторые итоги намеренно разрозненным – в лад всеохватной фрагментарности, пестуемой самими носителями петербургской темы, – наблюдениям.
Многократное, уже двухвековое т. н. умирание Петербурга как поэтический и публицистический мотив невольно встает в отношение параллельности с самой усталостью темы, с ее буксующей тавтологичностью, с ее как бы предсмертным износом.