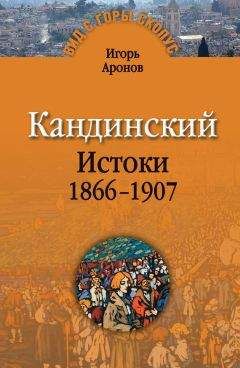Роман Тименчик - Что вдруг
Сопутствующие петербургской теме мотивные клише, тоже заведомо статичные в эту пору, скажем, происхождение столицы как материализация бреда —
И здесь на зараженном нерве
Из бреда создал Чародей
Дворцы, темницы, храмы, верфи,
Призрак мятущихся людей.
(Евгений Недзельский)
или первородный грех города на костях («На спинах держат град старинный сто тысяч мертвых костяков» – Н. Агнивцев, «Хрустел под бледным Петроградом коварный костяной фундамент» – Евгений Шах), или реванш топи блат –
И пошатнулся всадник медный,
и помрачился свод небес,
и раздавался крик победный:
«Да здравствует болотный бес».
(Владимир Набоков), —
все эти общие места и их производные преломляются новообретенной динамикой, энергией эпистолярного посыла, ведь многие из эмигрантских стихотворений – это в своем роде «письма туда».
Во все эти статические конструкции темы и жанров (а среди жанровых инерций числятся и псалмы-плачи об утраченном Иерусалиме) вписана диахроническая динамика двойной метаморфозы. Ибо эмигрантская стиховая петербургология прошла несколько стадий (в какой-то мере они соответствуют массовым изменениям эмигрантской психологии и историософии). Первая восходит к метаморфозе послереволюционного года, когда вся поэтическая эмблематика изменила семантику, начиная со шпилей и шпицев —
Осенний день раскинул крылья
Над утомленною землей, —
И петербургская Бастилья
Блестит кровавою иглой —
(Б. Башкиров-Верин)
и кончая самим «Медным всадником»:
И веще мнится, что с гранита
Старинной злобы не тая,
Виясь ползет из-под копыта
Полуожившая змея.
(Александр Рославлев)
– последняя неоднократно шипит в разных эмигрантских стихах, ну например, —
Там, где могучий Всадник Медный,
О вековой гранит звеня,
Сдавил главу змеи зловредной
Копытом гордого коня, —
Из-под гранита пьедестала
Пробился новый злобный гад,
Его раздвоенные жала
Коня и всадника язвят.
(Александр Федоров, 1924)
Происходит смена функций персонажей петербургской неомифологии начала века2 – Медный Всадник во время наводнения 1924 года у Вадима Гарднера говорит:
«Ты бушуй, красавица-царица,
Гневом обуянная Нева,
Покарай потомков ошалелых,
Ты в отмщениии своем права.
Осквернили детище Петрово,
Переименован в Ленинград
Чудный город, плод мечты высокой,
Парадиз мой обратили в ад».
В общем, происходит обращение, перевертывание, перезаполнение одической формулы «Где прежде – там ныне» – примеры слишком многочисленны, приведем лишь один, где город персонифицирован в его этимологически производном духе места – в городовом, с которым Блок попрощался в травестии городского романса:
Не слышно шуму городского,
Над Невской башней тишина,
И больше нет городового —
Гуляй, ребята, без вина
Эмиграция реабилитировала этого неизменного носителя сатирической ноты (кажется, только Маяковский с его урбанистическим пантрагизмом выбрал его в свои двойники: «Где города повешены и в петле облака застыли башен кривые выи – иду один рыдать, что перекрестком распяты городовые»). Показательна в этом смысле история стихотворения Александра Радзиевского «Мечта обывателя», напечатанного в «Новом Сатириконе» послефевральским летом 1917 года:
Городовой… как звучно это слово!
Какая власть, какая сила в нем!
Ах, я боюсь, спокойствия былого
Мы без тебя в отчизну не вернем.
…Где б ни был ты, ты был всегда на месте,
Везде стоял ты грозно впереди.
В твоих очах, в твоем державном жесте
Один был знак: «Подайся! Осади!»
…Мечтой небес, миражем чудной сказки
Опять встает знакомый образ твой…
Я заблудился без твоей указки.
Я по тебе скорблю, городовой!
В широких слоях эмиграции это стихотворение потеряло свою ироническую интонацию, а заодно и автора – в сан-францисских изданиях «Блистательного Санкт-Петербурга» 1960-х оно было отписано Н. Агнивцеву, а лос-анджелесский журнал «Согласие» хотел видеть автором расстрелянного князя Владимира Палея.
Низший чин полицейской стражи покрывается лирической дымкой —
Посередине мостовой
седой в усах, городовой
столбом стоит, и дворник красный
шуршит метлою.
(Владимир Набоков)
Пар валит от жаркой конской выи,
Пристав шел – порядок и гроза,
И уже без слов городовые
Поднимали строгие глаза.
(Валентин Горянский),
приобретает героические обертоны – при воспоминаниях о февральских днях:
В этот день машины броневые
Поползли по улицам пустым,
В этот день… одни городовые
С чердаков вступились за режим!
(Арсений Несмелов)
монументализируется через сближение с памятником Александру III:
Но неизменно каменное слово
Насмешника Паоло Трубецкого:
Гранитные комод и бегемот,
И всадник, в облике городового,
Украшенный кровавым бантом зря;
Февраль слиняет в ливнях Октября!
(Александр Перфильев)
и, подобно Милицанеру из поэзии будущих эпох, стоит, исполненный предчувствий, в центре санкт-петербургского космоса:
Вблизи Казанскаго Собора
Мальчишки продают цветы.
За тенью синею забора
Скамейки желтыя пусты.
Восходит солнце над Невою,
Церквей сверкают купола.
Летит в лазурь над головою
Адмиралтейская игла.
Фигура резкая застыла
Городового на посту.
Глаза его глядят уныло
Куда-то мимо, в пустоту!
(Анна Таль, 1925)
Ко второй половине 1920-х – стихи экс-петербуржцев о Петербурге начинают наследовать энергию очередной метаморфозы – ностальгической. Как говорила Ахматова: «Вы заметили, что с ними со всеми происходит в эмиграции? Пока Саша Черный жил в Петербурге, хуже города и на свете не было. Пошлость, мещанство, смрад. Он уехал. И оказалось, что Петербург – это рай. Нету ни Парижа, ни Средиземного моря – один Петербург прекрасен», повторяя, впрочем, наблюдения К.И. Чуковского в предисловии к книге Саши Черного в «Библиотеке поэта»3. В стихах появляется топика и риторика, заставляющая вспомнить чеховский пассаж (эта фраза приводится как пример чеховского блеска в лекциях петербуржца Набокова, придирчивого наблюдателя эмигрантской стилистики): «Обыватель живет у себя где-нибудь в Белеве или Жиздре – и ему не скучно, а приедет сюда: «Ах, скучно! ах, пыль!» Подумаешь, что он из Гренады приехал». Возникает конструкция «здесь и там», как и называется стихотворение В. Гарднера – где даже финские конькобежцы его не устраивают:
И образы прежней России
Рисуются снова в мечтах.
Вот вижу зиму в Петрограде;
Скользят по катку на «Прудках».
…Подружек ведут гимназисты;
Идет за четою чета…
Свежи по зиме поцелуи,
И нектара слаще уста.
…Ребята в Руси говорливей,
Проказники много резвей;
Смышленей, смелее мальчишки
И девочки наши нежней.
То есть стихи подзаряжаются энергией преодоленного заблуждения, снятого проклятия, усмиренной злобы. Есть и еще один динамизирующий поворот темы, еще один энергетизирующий момент для ухода от штампа, которым чреваты стихи из раздела patriotica на чужбине. Из прошлой петербургской жизни выбираются реалии, которые ранее, в 1910-х, несли тему континента («серым пеплом от окурка Европы» назовет Петербург Евгений Недзельский), скажем, «пармские фиалки» или магазин «Цветы из Ниццы» – как у М.Струве —
Здесь о садах на море бирюзовом
Мечтает привозной французский рай, —
то есть компоненты того зазеркалья, в который ныне переместился пишущий и которые в своем соприродном контексте начисто лишились своего поэтического ореола, как, скажем, более или менее достижимая Ницца в воспоминательных стихах Николая Оцупа о 1918 годе:
Где снегом занесенная Нева,
И голод, и мечты о Ницце,
И узкими шпалерами дрова,
Последние в столице.
Воссоздание опознаваемого города в лирическом стихотворении состоит во введении уникальных зрительных и слуховых деталей, а в петербургской поэтике начала прошлого века, как правило, сочетания тех и других, и обычно – минимума этих деталей, звукозрительной пары:
Последний свет погас в окне
И мы следим в сияньи братском,
Как медный всадник на коне
Летит по площади Сенатской.
И вот навек запечатлен
Тот миг… Загадочно-недавен
В моих ушах, как сон, как тлен,
Звенит-звенит еще – «Коль славен»…
(Татиана Остроумова)