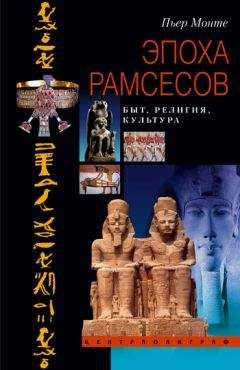Переписывая прошлое: Как культура отмены мешает строить будущее - Весперини Пьер
Прежде чем ответить на ваш вопрос, я хотел бы рассмотреть его контекст. В случае США мы имеем дело со страной, разделенной так называемым цветным барьером. Во Франции мы недооцениваем значимость этого разделения. Поскольку расизм, к сожалению, знаком и нам, мы склонны предполагать, что в США он выглядит так же, как здесь. Но это страна, где уровень насилия на расовой почве не сравним с нашим: уже после смерти Джорджа Флойда полицией были убиты шестнадцать цветных американцев. Это страна, где бывшие рабовладельческие штаты принимают бесчеловечные законы о выборах, чтобы помешать беднейшему населению голосовать (например, запрещают предлагать еду и воду людям, стоящим в очередях перед избирательными участками), или отправляют цветного в тюрьму на двадцать лет за кражу двух рубашек {178}.
Разумеется, это расовое разделение проявляется и в образовании. С черными детьми учителя (как правило, белые) обращаются не так, как с белыми, – черным гораздо чаще ставят низкие отметки, их чаще наказывают и выгоняют из школы. В этой связи стоит прочитать недавно опубликованный в The Washington Post красноречивый рассказ «благонамеренного белого учителя», который под старость стал испытывать угрызения совести {179}. При этом дело может зайти гораздо дальше плохих оценок, наказаний и исключений. В июле 2020 года, в разгар пандемии, мичиганский судья отправил пятнадцатилетнюю чернокожую девочку в тюрьму за то, что она не выполняла домашние задания на дистанционном обучении {180}.
В университете расовый разрыв между студентами увеличивается десятикратно по чисто финансовым причинам. Образование стоит огромных денег и в большинстве случаев недоступно цветному населению. Берни Сандерс рассказывал, как после предвыборной речи, в которой он упомянул выпускницу медицинского факультета, задолжавшую 300 000 долларов за обучение, к нему обратилась другая молодая выпускница: ее долг составлял целых 400 000 долларов {181}. Этот материальный, финансовый разрыв часто упускают из виду в дебатах о классической филологии, но он не менее – а то и более – важен, чем ментальный и, следовательно, явно социальный разрыв между расами.
К сожалению, классическая филология действительно сыграла определенную роль в формировании этого расового раскола. Разумеется, это ничего не говорит о самих исследованиях древних языков и текстов. Но кое-что говорит о том, как обучение этим дисциплинам устроено в США. Конечно, этот вопрос требует тщательного изучения, но я не думаю, что ошибусь, если скажу, что в США не было традиции «левых» специалистов по этой дисциплине. Я могу вспомнить только Мозеса Финли, который был скорее историком Античности, чем филологом-классиком. Но я не вижу в США ничего похожего на то, что есть у нас во Франции (достаточно вспомнить таких ученых, как Жан-Пьер Вернан, Пьер Видаль-Наке, Николь Лоро, Марсель Детьен, Клод Калам), в Италии, где работают Лучано Канфора, Маурицио Беттини, Альдо Скьявоне, или в Англии, где Мэри Бирд регулярно дает интервью прессе. В общем, в США мы имеем дело с преподавателями, которые, хотя обычно голосуют за демократов и, конечно, не считают себя расистами, в силу своей политической инертности способствуют сохранению несправедливой социальной системы.
Бывает, что дело заходит еще дальше. Двадцать лет назад, работая в Высшей нормальной школе, я провел год в одном американском университете, где в течение семестра вел курс классической филологии. Там я подружился с одной чернокожей студенткой, Уитни Снид, чья мать была баскетбольным судьей. Уитни заинтересовалась древнегреческим и латынью в колледже, прочтя сцену бури в «Энеиде». Меня возмущали издевки и притеснения, с которыми она столкнулась на этом факультете со стороны некоторых преподавателей, – они явно считали, что чернокожей девушке нечего делать в их классе. Им просто было некомфортно рядом с ней. Уверен, они ни за что не назвали бы себя расистами. Они всего лишь искренне считали, что ей «было бы лучше» где-то еще, где она была бы более «на своем месте». Недавно мы снова начали общаться. Она решила уйти из классической филологии, поскольку чувствовала себя там не на своем месте. Но это не мешает ей критиковать решение Принстонского университета. Я спросил, не согласится ли она рассказать о своем опыте, и ее свидетельство приводится далее {182}.
Решение Принстона – великолепный пример абсурдной логики, поскольку оно приведет к укреплению того самого явления, с которым якобы пытается бороться. В самом деле, что произойдет дальше? По сути, Принстон создаст иерархию, где специалисты в области классической филологии, знающие латынь и древнегреческий – по большей части белые, наследники традиции, – будут отделены от цветных, которые не знают этих языков. Эта иерархия будет как интеллектуальной и научной, поскольку первые благодаря знанию языков будут доминировать над вторыми, так и социальной. Первые смогут планировать преподавательскую и исследовательскую карьеру, вторые – нет. Кому-то из них удастся стать преподавателем или исследователем, но и они неизбежно окажутся на более низких ступенях.
Впрочем, аргументация Принстона абсурдна не только поэтому (глупость часто имеет более серьезные последствия, чем злой умысел). Отменив требование изучать латынь и греческий, он лишь играет на руку тем, кто считает, что классические факультеты не нужны. Ведь филологов-классиков от историков Античности и литературоведов отличало именно обязательное изучение древних языков. Отныне же университеты смогут, основываясь на решении Принстона, закрыть свои отделения классической филологии и перераспределить их преподавателей по факультетам истории, археологии, языков и других гуманитарных дисциплин. Отделение классической филологии Принстона не пропадет, потому что у него много денег, однако другие могут пострадать от его, отделения, непоследовательности.
Абсурдность этого решения была отмечена рядом ученых, включая Джона МакУортера, в прекрасной статье в The Atlantic {183}. Эта публикация заставила Принстон выпустить довольно жалкое заявление, которое звучит почти как отказ от своих слов {184}.
Зададим вопрос на почти эпистемологическом (или, по крайней мере, педагогическом) уровне: возможно ли изучать (см. сайт Принстона) «историю, язык, литературу и мысль Древней Греции и Рима» без изучения языков? А если кто-то решит попытаться, как далеко он сможет продвинуться? Что можно узнать о Древней Греции или Риме, не зная их языков?
Можно узнать о них ровно то, что знали люди в Средние века. Как известно, вопреки стереотипному представлению о Средневековье как о темных веках, люди той эпохи были очарованы Античностью. Но они в большинстве своем не знали древнегреческого, а те, кто знал латынь, не имели специальной историко-филологической подготовки. Я имею в виду, что клирики не умели отличить латынь, которой пользовались сами, от древней латыни (и тем более не различали варианты латыни, бывшие в ходу на протяжении античного периода). К тому же они были неспособны отделить (или не были заинтересованы в этом) свой мир от античного. Единственное различие, которое они видели, заключалось в том, что древним было отказано в спасении. Вспомните великолепный пассаж из четвертой песни «Ада», где выведены языческие авторы, включая Вергилия, которыми Данте восхищается в ужасном одиночестве «высокого замка», куда сам же их и поместил. Борхес в своих «Девяти эссе о Данте» посвятил этому несколько прекрасных страниц.
Таким образом, в результате Античность воспринимается как часть мира, который тебя окружает, а не как нечто иное. На эту присвоенную Античность можно спроецировать все свои фантазии, все свои проблемы… или все свои банальности. Вспомните удручающую скудость рассуждений о том, как античная философия могла бы помочь нам во время самоизоляции («древнегреческие философы предложили бы нам посмотреть на небо» {185} и т. д.). Все это вполне невинно, это даже может дать толчок к развитию воображения и творчеству (например, средневековые люди были невероятно креативны, когда говорили об Античности), поэтому я ничего не имею против – пока это не начинают выдавать за науку. Невозможно познать мир, не зная его языка. Это известно любому, у кого был роман с иностранцем. Если вы не говорите на одном языке с любимым, вам всегда будет недоставать чего-то, чтобы понять его.