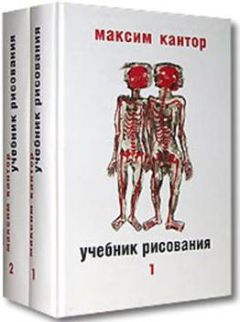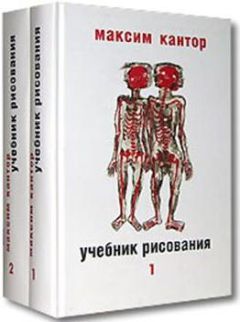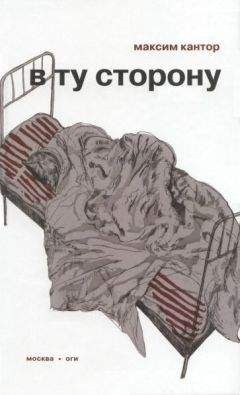Максим Кантор - Сетевые публикации
Живопись в Ренессансе главенствовала, она опережала философию и литературу, и образы привезенные Пантагрюэлем с острова Мидомоти в подарок отцу Гаргантюа, и рассказывают читателю о том, как устроен идеал. В совокупности с утопией брата Жана (т. е. аббатство Телем) это образует смысловой катарсис книги — то именно, ради чего Рабле писал. Сама книга — она как мифический зверь Тарант, которого Пантагрюэль привозит в подарок Гаргантюа — это специально сделанное Богом существо, разбрасывающее образы. Тарант выбрасывает образы в мир, это такой живой, одушевленный эйдос. Про то, что есть образ и четыре уровня бытия образа — я рассказывал прежде, читатель может освежить это в памяти. Теперь представьте зверя, которого привез Пантагрюэль. Похоже на «карнавальную» культуру? не очень похоже, потому что эйдос — единая сущность.
Я так долго говорю это вот для чего.
Постоянное Возрождение возрождения — это необходимый истории процесс, это есть условие бытия истории, смысла истории. Иными словами, это воссоздание единого эйдоса знания, включающего в себя разные мелкие и даже сравнительно большие взгляды и взглядики.
«Нидердандские Пословицы», написанные Брейгелем, не могут быть поняты без текста «Поговорок», написанных ранее Эразмом, «Безумная Грета» Брейгеля есть прямой ответ на «Корабль дураков» Себастиана Брандта (да и сам корабль там на картине, кстати, присутствует, найдите его) Франсуа Рабле, а терцина (стихотворное крепление Дантовской Комедии) напрямую связано с тройным аркбутаном (аркоподобное, тройное крепление в архитектуре). Это не выдумка; то есть, выдумал-то это сравнение я, но это — чистая правда, поверьте. Иначе и мир существовать бы не смог. Все сопряжено, все едино, а потому имеет смысл. Возрождение именно потому и Возрождение, что данный смысл заново обнаруживает.
А если кому-то нравится просто считать количество употреблений слова «задница» в книге Гаргатюа, то он обкрадывает сам себя.
Есть такая картина у Брейгеля «Обращение Савла», на ней изображено трудное движение больших полков; по горным лесным тропам, среди утесов идет войско, колышутся пики, блещут шлемы — где-то впереди идет битва, войска стремятся в бой. Сразу и не найдешь среди многих фигур сценки с упавшим с коня Савлом. Фигурка будущего Павла совсем маленькая, затерянная в этой батальной истории. Для чего так нарисовано? Согласно четырем толкованиям Фомы Аквинского — и эту картину можно читать по всякому: можно читать сцену как буквальную (было вот так), как метафорическую (среди насилия рождаются праведники), как символическую (через победу нидерландской революции и освободительную войну с Испанией придет перерождение нации: точно Савла — в Павла), но следует понимать и анагогический, метафизический смысл картины. Трудный путь войска по горам — есть трудный путь веры и знания; до прозрения необходимо продраться через чащу невежества и миллион пик полу-знаний и фанаберий; пройдите этот путь — и вот тогда получится: когда уже кончатся силы, совсем неожиданно — вы поймете, как надо. Принимайте мир целиком, как единое знание, скрепленное верой. Вот про это и написана картина.
Триумф Цезаря (25.07.2012)
Андреа Мантенья последние годы своей жизни писал «Триумфы Цезаря» — наряду с капеллой Микеланджело и «Вечерей» Леонардо, этот полиптих — главное произведение итальянского Возрождения.
«Триумфы» — это девять огромных холстов, каждый около трех метров длиной. На каждом из холстов изображен фрагмент шествия: перед нами проходят рабы, воины, пленники, кони, слоны. Изображен неостановимый поток людей, поток людей движется справа налево — они несут штандарты, драгоценности, оружие, утварь. Это символ силы и славы государства и цивилизации. Античный триумф — это традиционная процессия из рабов и воинов, несущих трофеи и дань; триумф — это апогей государственного торжества после победы над врагом. Все вместе девять холстов образуют гигантский фриз — наподобие фризов Фидия в Парфеноне. Название «Триумфы Цезаря» не поддается дальнейшей расшифровке — неясно, какой из конкретных триумфов изображен, наиболее точная отсылка к процессии, изображенной Фидием на барельефном фризе Парфенона. Скорее всего, это парафраз барельефа с южной стены Парфенона: ведут жертвенных животных, шагают пленники, впереди играют музыканты. Желание в живописи создать скульптуру, подчеркнуто тем, что Мантенья эскизы выполнял в монохромной технике гризайли, как бы изображая не людей, но шагающие статуи. Это такой триумф триумфов: они не живые люди — а памятники победе. Триумф цивилизации в целом.
Мантенья писал эти девять холстов долго, почти десять лет. Непонятно, зачем великий старик истратил последние годы на то, чтобы изобразить такую, в сущности, пустую сцену. Прежде писал Распятия и Святого Себастьяна, Мертвого Христа и Сретенье — но зачем истратить последние годы, время завещаний и важнейших слов — на изображение суеты? Изображен парад, демонстрация мощи и спеси. Нарисованы люди, которые не в силах обособить свое существование — всех влечет общее движение в строю, им уже не вырваться из парада суеты.
Если смысл в том, чтобы показать суету триумфа, то это очень небольшой смысл: и одного холста хватило бы. А десяти лет на такое послание — истратить жалко.
То есть сегодня это нормально: сегодня принято тратить жизнь на то, чтобы славить суету, но для Мантеньи это было нетипично.
Вообразите, что великий художник, мудрый человек (знаток латыни и древних текстов) тратит годы на тщеславную картину (или на разоблачение тщеславия, что одно и то же) — ему что, времени не жалко? Кстати, это единственная картина Ренессанса, которая написана не на заказ — художник писал вопреки воле семейства Гонзаго, при дворе которых жил. Писал он по своему желанию, он, очевидно, хотел сказать нечто важное.
Причем, пишет сразу девять холстов, чтобы усугубить впечатление протяженного шествия, чтобы сделать зрителя буквальным свидетелем процессии. Фигуры нарисованы в натуральный размер — и, когда мы находимся перед этим тридцатиметровым произведением, возникает эффект «Бородинской панорамы» — персонажи реально идут, реально движутся, вечно длящийся триумф.
Это произведение, масштабом равное «Страшному суду» Микеланджело, — у меня нет никакого сомнения, что Мантенья думал именно о такой параллели; думал о Фидии и о Микеланджело — он был человеком амбициозным. После того, как он написал то, что мы сегодня изучаем в хрестоматиях, Мантенья истратил самые важные годы на «Триумфы».
Поскольку мы исходим из того, что он был человеком вменяемым и ценил свое время, хорошо бы это произведение понять.
Произведение это означает вот что:
Мантенья изобразил, как устроено наше сознание.
Платон, как это известно, описал наше сознание метафорой пещеры — причем мы стоим спиной к входу и видим лишь тени, падающие на стену пещеры. Эти тени и дают пищу нашему сознанию. Когда мы вспоминаем эту метафору Платона, мы забываем существенную часть ее: а именно то, что же, собственно, отбрасывает тени на стены пещеры.
У Платона сказано буквально следующее: мимо пещеры проходят триумфальные процессии, и вот как раз именно тени, отброшенные этими шествиями, и есть идеи, питающие наше сознание. Платон даже описывает шум и звон, производимый цимбалами и конями — вот эту-то процессию и изобразил Андреа Мантенья.
Он проделал поразительную вещь: развернул зрителя лицом к тому, что отбрасывает тень, оказалось, что процессия, отбрасывающая тень — есть цивилизация. Мантенья заставил зрителя увидеть жестокость цивилизации, ее мощь и дряность одновременно — то есть, сделал то, о чем у Платона и речи нет — исследовал предмет, отбрасывающий тень, образующий сознание. Наше сознание соткано из теней, отброшенных вот этим шествием — ну, посмотрите внимательно, каково оно.
Существенно включить в анализ «Триумфов» современную Мантенье книгу — «Сны Полифила» Франческо Колонны, священника и проповедника, игравшего в то время роль, схожую с ролью Савонаролы — если иметь в виду степень воздействия на умы. «Сны Полифила» это книга о путешествии во сне, снящемся внутри сна — совершенно Платоновская последовательность развоплощения. Мантенья был верным читателем Колонны — в его поздних картинах есть прямые цитаты: скалы, разрушенные временем до облика чудовищ. И то, что наше сознание — есть путешествие в мире теней, то есть во сне, который снится, а сам сон это и есть цивилизация, — все это сказано весьма отчетливо.
Здесь любопытно вот что:
Понятие «тени» для античного и для христианского восприятия — нетождественны. Тень для Платона и тень для Фомы Аквинского — имеют очень разные значения. Природа тени трактуется в иконописи как злое начало — и тут нет двойного прочтения. Иконопись и живопись Возрождения до Пьеро дела Франческо тени вообще не знает: написать святого в тени или с ликом, измененным игрой светотени — это нонсенс. Скажем, в дантовской поэме «мир теней» не есть мир смыслов — смыслом являемся яркий свет. Данте, который постоянно разговаривает на темы платоновских диалогов, идеал представляет себе как ровное сияние — и войти в мир света его вожатый Вергилий (античный мудрец, которому смысл явлен в тенях) никак не может.