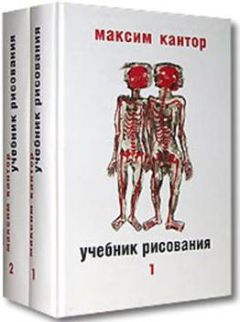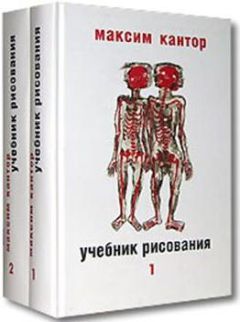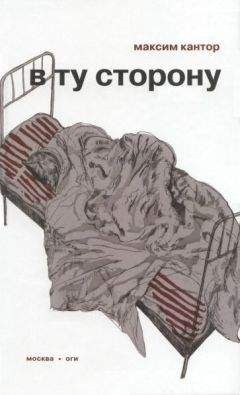Максим Кантор - Сетевые публикации
3) Существует образный язык картины. Уважайте язык. Это не случайно художником наляпалось (как бывает у многих иных). Это нарочно так нарисовано. Художник старался. Он специально так нарисовал. Мог по-другому, а нарисовал вот так.
Петров-Водкин, в отличие от многих шарлатанов и поденщиков-авангардистов, был художником возрожденческого масштаба. Он создавал мир. Он придумал, ни много ни мало, собственную сферическую перспективу — то есть не обратную, и не прямую, а как бы глядя на землю сверху, перспективу, охватывающую всю округлость шара. (Сходное есть у позднего Брейгеля.) Данная перспектива переводила событие во вселенский масштаб — случай превращался в событие мирового, планетарного значения. И вот этот случай смерти на дороге — художник назвал планетарным событием. Так давайте подумаем сообща, какую смерть на полпути, какого комиссара мог он считать событием планетарного масштаба? Вот умирает комиссар — так поглядите на эскизы его лица, на смертную муку, задайте себе вопрос: зачем в 27-м году художник нарисовал умирающего вождя отряда? Ну, зачем? Поглядите на первые эскизы картины — где комиссар еще ан-фас: это абсолютно точный портрет Ленина, в подробностях. И для чего мастер написал осиротевших, уходящих солдат, теряющих равновесие, сбившихся с ноги и падающих за горизонт?
Вы, правда, полагаете, что солдаты накренились и как бы падают — случайно? Думаете, Петров-Водкин не умел рисовать иначе? Право же, он умел рисовать — как хотел. Отнеситесь внимательно к тому, что художник нарисовал.
Он нарисовал нового Хозяина квартиры (в картине «Новоселье») похожим на Сталина и Ленина не случайно, Есть портрет Ленина, написанный Петровым-Водкиным в 1934 году, и Хозяин — практически копия этого портрета, даже поза та же, даже лицо схоже. Новая деталь — рука с трубкой — отрисована в набросках и эскизах, художник скрестил двух вождей. Я почти не сомневаюсь и в том, что сам Кузьма Иванович проговорил про себя слово «Хозяин», которое уже тогда было в ходу. Эта картина столь же символична, как иные его вещи — это итог революции. Это рассказ о том, что случилось после смерти комиссара, и после того, как арестовали встревоженную семью. Петров-Водкин — мастер детали: посмотрите на осиротевший оклад с лампадкой — иконку выдрали (это над головой старичка в правом углу), посмотрите на портреты прежних жильцов квартиры — они висят по стенам, посмотрите на выбитое стекло — в самом центре композиции. И — пожалуйста — исходите из того, что художник не глупее вас, он говорит то, что хочет сказать, вы только слушайте внимательно.
Объем здешних статей, и время, которого мне жалко, не позволяют написать про цветовую символику. Она очень важна — попробуйте сами. Не забывайте про первые три пункта, повторяйте их про себя.
Я ограничусь тем, что скажу еще раз: не считайте себя умнее великого художника, не думайте, что вам ведомо искусство. Скорее всего, это совсем не так, — но постарайтесь просто очень внимательно смотреть и научиться понимать. Мы все немного развращены пустым творчество современности: столько неучей воскликнуло «я так вижу», что замысел дискредитирован. Но такое разгильдяйство было далеко не всегда. Петров-Водкин действительно изобразил историю Советской власти — прочтите эту историю внимательно.
Ни Леонардо, ни Брейгель, ни Микеланджело, ни Боттичелли, ни Петров-Водкин — не работали случайно. Их картины надо смотреть уважительно и внимательно — иначе эти картины просто отвернутся от вас, и в проигрыше останетесь только вы.
Картины без вас отлично обойдутся, они просто подождут умного зрителя.
Уважайте культуру, пожалуйста.
Обращение Савла (23.07.2012)
Есть книга «Похвала Глупости», ее написал Эразм Роттердамский.
Эразм написал книгу для того, чтобы показать, как глупость побеждает мир, и что несет ее победа.
Мория (Эразм используем греческое имя глупости, а глупцов называет «мориевы чада») рождена богом Плутосом (то есть богом богатства), вскормили ее Мете (Опьянение), дочь Вакха и Апедия (Невоспитанность), дочь Пана. Морию окружают нимфы: Колакия (Лесть), Лета (Забвение), Мисопония (Лень), Гедонэ (Наслаждение), Анойя (Безумие), Трфе (Чревоугодия), Космос (Разгул), Гипнос (Непробудный сон).
Мория побеждает мир простейшим способом: она расчленяет знания, она дробит представление о мире на множество мелких представлений, полу-знаний, четверть-знаний, она подменяет мировоззрение — свободными взглядами. В дальнейшем, когда вместо мировоззрения у человека имеется веер свободных взглядов на то и на это, в каждом из этих мелких свободных взглядов и взглядиков, Глупость показывает относительность верха и низа, переворачивает понятие в удобном для употребления ракурсе — это осуществляется ради сиюминутного удобства и свободы.
Собственно ровно эту же самую процедуру проделывает Жак Деррида — философия пост-модерна, разрушая категориальный тип рассуждения, следует рецептам, описанным Эразмом.
Так образуется феномен свободного гражданина, оперирующего малыми знаниями и не имеющего желания малые знания сопрягать ни в чем ином, кроме как в понятии «свобода». Этот гомункулус современного мира, дитя Свободы и Мории — считается достижением Запада; иногда сравнивают высказывания Гегеля о самопознании мирового духа, случившегося во время Наполеоновских войн, — с высказываниями современных мыслителей о конце истории. Разумеется, сравнение некорректно: свобода для Гегеля отнюдь не цель развития, категориальность мироздания для него безусловна.
Вообще, сегодняшний субъект истории (мориево чадо) есть существо прямо оппозиционное тому типу человека, который мы называем «человек возрождения».
Человек Возрождения — это не просто тот человек, который одновременно умеет слагать стихи, знает философию, историю, может рисовать и музицировать — это прежде всего тот, кто данные знания сопрягает. Знание (для Возрождения, или для Платона) это объединение, сопряжение малых умений и малых представлений. Не разъединение профессии врача — на ухо-горло-нос и ортопедию, но объединение всех частных позицию в одну общую. Человек Возрождения — это тот, кто хочет срастить малые величины, знание для него — это соединение.
Прибавьте к общей сумме еще и христианство — поскольку Возрождение есть не просто собирание античных знаний в единое представление о мире, но и сопряжение этого общего знания с моралью христианства. В этом, собственно говоря, и есть смысл неоплатонизма — в обозначении такого эйдоса, который морален (и потому благ), а не просто благ (и потому морален).
В связи с этим, свобода человека Возрождения не может рассматриваться как индивидуальный феномен бытия — но свобода понимается лишь как совокупность свободных воль многих. (Об этом у Эразма есть отдельный трактат, кстати говоря.)
Все это я говорю к тому, что анализ произведения Франсуа Рабле «Гаргантюя и Пантагрюэль» должен принимать единство дисциплин и знания как непременное условие разговора. Принцип Рабле — это не переворачивание Низа и Верха, но единое и нерасторжимое пространство бытия верха и низа. Не было никакой карнавальной эстетики, ее просто не существовало — но было единое знание о небе и земле, Афродита Урания и Афродита Пандемос — суть единая, они просто явлены нашему взгляду и опыту порознь. Христианский феномен нераздельного слияния сущностей Троицы и платоновское единение Афродиты Небесной и Афродиты Земной — требуют одного и того же умственного усилия для понимания, это та же самая мысль. Мысль необходимая для понимания того, как устроено единство мира. Про это — именно про это и не про что иное — и написан роман Рабле.
В этом смысле полемика М. Бахтина и А. Лосева по поводу вульгаризмов книги Рабле — осталась лишь полемикой между Бахтиным и Лосевым, а сам Рабле в ней участия вовсе не принял. Алексей Федорович разгромил представление Бахтина о карнавальной культуре в романе, как о профанирующей божественный замысел, осмеял ренессансную эстетику Рабле как вульгарную, — осмеял именно потому что Бахтин эту «низовую» эстетику противопоставил идеологии монастырей. Спор верующего Лосева с неверующим Бахтиным породил миллион малых взглядов и взглядиков на Ренессанс, и на Рабле в частности, спор собрал сторонников одной версии и адептов другой. Сотни «мориевых чад» истово боролись за карнавальную культуру, как условие свободы и против регламента монастырской идеологии — борются и теперь, причем полагают, что борются за ренессансную свободу — но к Рабле и к его книге этот спор не относится никак.
Собственно, анализ произведенный Бахтиным и ответ Лосева и не могли быть полными — оттого, что книга Рабле представляет единый компендиум знаний (как и книга Данте, например) и разьять ее на фрагменты значит убить и не понять. Вне знания живописи прочесть книгу (не то что понять — а лишь прочесть) нереально. Знания для Рабле были слитны, соединены в одно целое, нерасторжимое целое, неслиянно нераздельное — и зрительность этих знаний для человека Ренессанса есть само собой разумеющаяся вещь.