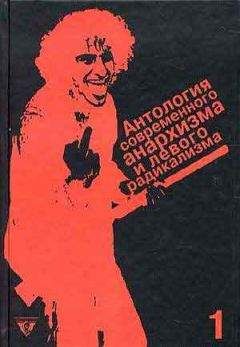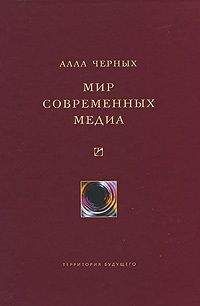Павел Анненков - Парижские письма
Но возвращаюсь к картинам.
Есть однакоже возможность отыскать порядок в этом хаосе. Для этого надобно только пройти молчанием все, что заслуживает одобрения, что похвально, в чем видно изучение природы и даже некоторая поэтическая теплота, а остановиться единственно только на том, что ново, оригинально и имеет решительный шаг сильного таланта, а потому и особенную важность для общества. В Европе искусство столько же общественный вопрос, сколько воспитание, пролетариатство, соль или табак. В самом деле, какую душеспасительную истину извлечете вы, прочитав, например, что «Нормандский пейзаж» г. Куанье (Coignet){210} очень весел, хотя и сух, что «Возвращение с рынка бретонских крестьян» г. Адольфа Лелё (Leleux){211} имеет невыразимую прелесть истины, что кисть его брата Армана{212} делается все тверже, что «Пиринейцы» Рокеплана{213} просты и верны, а «Разбойники» Лепуатьеня{214} в плащах и шляпах с перьями шумливы и театральны, что Флере (Fiers){215} по-прежнему отгадывает в пейзажах окрестностей Парижа их задумчивое выражение и меланхолическую красоту, что Мейер{216} написал прекрасное «Захождение солнца на море», а Бланшар{217} – «Переход через ручей стада коров», очень милый, и прочее и прочее. Нельзя даже останавливаться на таких явлениях, какое представляет, например, г. Пангильи{218} (Penguilly l'Haridon), переносящий манеру испанцев в свои маленькие живописные анекдотцы. Вы можете судить о мрачном содержании этих картинок по названиям, данным им в каталоге; это, во-первых, «Нищие», во-вторых, «Un tripot», вертеп, в-третьих, «Пейзаж в дождь». Последнее вас удивит, и вы не найдете ничего страшного в нем, особливо, если человек завелся зонтиком, но дождь г. Пангильи не совсем простой. Это дождь исторический, омывающий монфоконскую виселицу с дюжиной жертв на ней, с которых сбегает он длинными струями на камни, прорезывает между ними ручьи и мутно шумит в темную, глухую ночь. Капризно и странно, но – увы! – как-то бессмысленно. Не знаешь, любуется ли художник явлением, или протестует против него, или делает то и другое в одно время. После этого скажите сами: следует ли обогащать ум приятелей, живущих вдали, замечаниями о заметном усовершенствовании такого-то художника, о перемене манеры у другого, о видимом упадке третьего или о хорошенькой картине, более или менее удавшейся, но которая, если бы и еще более удалась, так ничего не прибавила бы к общественному развитию, а если бы менее удалась, так ничего бы не отняла от него и ничему не научила? Конечно, все это до малейших подробностей дозволяется знать критику туземному – для оценки произведений, директору департамента внутренних дел – для назначения крестиков, немецкому изыскателю – так, для того, чтоб знать, на манер Осипа в «Ревизоре»{219}, который все берет и веревочкой не гнушается. Ведь есть немцы, которые знают наших Хераскова{220} и Петрова{221}! Но мне, не родившемуся для этих трех почетных званий, мне неприлично захватывать преимущества и льготы, им усвоенные. Личное удовольствие, какое могу испытывать при том или другом произведении, берегу я для себя, а с отсутствующими приятелями буду только говорить о таких произведениях, которые или вносят новый элемент в искусство, а стало быть, и в общественное духовное богатство, оригинальною манерой и смелым поэтическим взглядом на природу, или сильно выражают современное направление и тайные требования общества. Таким образом, из тысячи имен пригодны бывают для письма иногда пяток, а иногда и ни одно не бывает пригодно. Судите поэтому, что в нынешний раз я буду говорить с вами серьезно только о двух лицах – о Коро (Corot) и о Диазе (Diaz), именно по причинам вышеизложенным. Вместе с тем согласитесь, что невозможно лучше оправдать молчания, как сделал я, за что мне, вероятно, будут благодарны многие русские писатели и ученые!
Из двух пейзажей Коро особенно замечателен тот, который представляет вечер, и на нем-то я остановлюсь преимущественно. Маленькая, уединенная речка, сдавленная небольшими возвышениями, начинает покрываться вечернею мглой, но так, что особенным действием косвенных лучей солнца одна сторона ее уже делается совершенно безразлична и уходит в темноту, между тем как на другой еще играет последний свет вечера, но бледно и нерешительно. Облака на небе разорваны, и красный оттенок их тухнет как будто на глазах ваших. Перспектива реки в этом освещении и перспектива воздуха выдержаны превосходно. Через несколько минут внимания вы еще различаете на полусветлой стороне речки за пригорком, осенённым деревьями, лодку и человека, который вводит ее в затишье к берегу. Фигура лодки и человека представляет один нерешительный силуэт, позволяющий распознать их в общности, но уже не дающий никаких подробностей. Когда вы подходите к картине близко, она теряет все свое очарование, потому что вы видите предметы отдельно и теряете целое. Один шаг назад воссоздает ее вам в поэтическом блеске: вы словно наблюдаете тихую смерть дня! Картина эта – не копия с природы, не подражание видимым предметам: это передача впечатления, которое дает иногда глазу художника природа в некоторые моменты свои. Таков Коро!
Можно сказать, что та же самая манера свойственна и Диазу, но тут уже вошел каприз, своеволие представления природы, иногда просто старание обольстить глаз комбинацией красок, в которых изумруд зелени, рубины и перлы женских костюмов, огонь солнечного луча, играющего на девичьем теле, составляют удивительный калейдоскоп, не лишенный, однакож, как тот, гармонии в цветах. И впечатление еще увеличивается от беглого, поверхностного, убегающего, так сказать, исполнения. Как ни долго смотрите вы на картину Диаза, едва только отошли вы, вам уже она кажется пейзажем, мимо которого промчались вы на паровозе. Известно, сколько в современной французской буржуазии лежит чисто головного, абстрактного сенсуализма. Вспомните романы Дюма и Сю. Эту черту внес Диаз в живопись. Из десяти картинок, выставленных им ныне, только в трех нет фантастических женщин в густой чаще леса, на берегу ручья, облитых светом и негою в одно время, в сладострастном покое или в раздолье игр, сокрытых от всякого глаза. Женщинам этим нет имен; нельзя узнать, под каким небом родились они и даже какой народ выдумал костюм их: костюм их – это блестящая ткань, переливающаяся различными цветами, и только. Всего лучше поясняют дело самые названия картин, под которыми внесены они в каталог: «Repos oriental», «Le rêve», «La causerie orientale», «Baigneuse»[36] и проч. Может ли быть что-нибудь неопределеннее, мечтательнее? С этой точки зрения Диаз может считаться Вато современного общества, живописцем своего века и притом одним из самых сильных талантов его. Что он может сделать в серьезную свою минуту, свидетельствует его удивительный «Лес осенью», когда земля делается хрупка и все тоны неба и воздуха быстро бегут и сменяются один другим: это превосходно! Диаз уже составил себе школу во Франции{222}, и между подражателями его есть люди тоже с талантами, каковы Лонге{223}, Миллер{224} и др. Здесь кстати сказать, что реального выражения страсти любви и наслаждения, чем так блестит, например, бессмертная Венецианская школа, я не видел еще нигде в современном французском искусстве. С некоторою, впрочем, умеренною гордостью замечал я, что как только вздумает он коснуться действительного чувства, то переходит тотчас или в сантиментальность, или в скандалёзный будуарный романчик. Этот последний имеет ныне даже своего представителя в особе г. Видаля{225}. Рисунки его поражают мастерством выводить наружу, в условных грациозных формах, грешные мысли развивающегося организма. Люди совсем не робкие были однакож изумлены, увидев ныне в Лувре рисуночек его, изображающий молодую девушку, с упоением целующую собственный свой образ, отражающийся в зеркале. Тем приятнее, тем поразительнее для меня было встретить в скульптурных произведениях статую, полную силы и настоящей страсти, которая до того поразила Париж, что здесь только и толкуют о ней, когда речь заходит о выставке.
Статуя эта принадлежит г. Клесингеру{226} (Clésinger) и, под простым названием: «Женщины, уязвленной змеей» (Femme piquée par un serpent»), представляет совсем не боль, не отчаяние, а, напротив, жизнь в самую жаркую ее минуту, наслаждение в самом сильном его проявлении. Змей, обвивший ногу этой женщины, есть только уловка не назвать вещи по имени, впрочем, никого не обманувшая: такого выражения упоения змеи не производят, будь они воспитаны хоть центральною фаланстерией. Статуя находится в лежачем положении, на розах, с головой, откинутою в беспамятстве назад, с корпусом, сильно выдавшимся вперед, так что линия, образуемая им, составляет мягкую дугу. Если поднять статую на ноги, она представит очень близко знаменитую «Менаду» Скопаса{227}, рельеф, находящийся в Лувре. В лежачем положении эта фигура, полная крайнего внутреннего самозабвения, грешит против законов скульптуры тем, что с какого вам угодно пункта глаз ваш обнимает только одну часть тела, а не все целое. Она должна быть поставлена весьма низко для полного осмотра. Заранее можно сказать, что настоящее ее место – какой-нибудь великолепный бассейн в саду загородного дома. Нужно ли вам говорить о нежнейшей отделке, об искусстве сообщать всему телу, каждому мускулу, каждой складке и морщинке биение жизни, тайне, доступной весьма немногим скульпторам в наше время? Поистине сказать, статуя Клесингера между колоссальными фигурами великих и не великих людей, заказываемыми муниципалитетами французских городов ради местного кичения, между холодными и безобразными бюстами, между фигурок манерной грациозности и в нескольких шагах от расслабленной «Pieta»[37] г. Прадье{228} (Прадье вздумал себя попробовать в самом патетическом сюжете нового искусства – «Плача Матери над Святым Сыном» – и произвел болезненное и ничтожное создание), статуя Клесингера, говорю, производит между ними невыразимое впечатление! Это до того свежий, здоровый голос природы, что от окружающей обстановки он делается почти едок, почти невыносим, и многими считается за отзыв языческого мира, между тем как явление, видимо, принадлежит всем векам. Стоит только один раз посмотреть вокруг себя, и оно делается ясно, законно, чисто. А что стоит человеку один раз быть повнимательнее к самому себе и другим. Ведь один раз не закон! Приказывал же Гиппократ{229}, кажется, напиваться раз в месяц для здоровья, а тут просят раз в жизни быть тверёзу. Можно, чай, согласиться, да вряд ли кто послушает!..