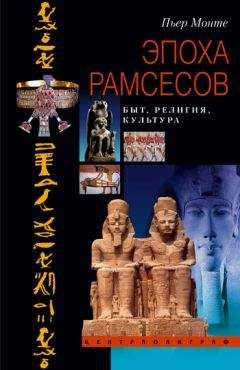Переписывая прошлое: Как культура отмены мешает строить будущее - Весперини Пьер
Таким образом, студентки указали на животрепещущую проблему, которая заключается в неосознанной иерархичности и антидемократичности западной культуры-наследия. Тем самым они не могли не спровоцировать преднамеренного непонимания (пусть даже это стремление к непониманию чаще всего остается неосознанным) и, шире, беспокойства всех тех, чей экономический успех или социальный статус основан на сакральной природе этой культуры. Это касается медийных личностей, временных авторитетов в академическом мире, а также – на более низких ступенях социальной лестницы – научных работников, преподавателей, журналистов, представителей среднего класса (адвокатов, врачей, бизнесменов и т. д.), то есть всех «культурных людей», искренне и простодушно претендующих на уважение, признание и почтение со стороны современников. Еще острее беспокойство ощущается среди профессионалов знания, «клириков», которые, в отличие от «мирян», в буквальном смысле живут за счет культуры. Они оказались в сложном положении, поскольку всегда считали, что занимаются чем-то достойным и делают это правильно: десятилетиями они защищают культуру, в то время как неолиберальный капитализм, подмяв под себя политику в области образования и науки, неустанно требует, чтобы они объяснили, какую выгоду получает общество от их существования. А теперь их в чем-то обвиняют!
Но раздражение и беспокойство, как и удивление {131}, могут дать начало мысли – лишь бы хватило смелости. Ибо осознавать темные стороны своего прошлого или своей научной дисциплины всегда болезненно, а размышлять всегда опасно, ведь это может поколебать уверенность, которая служит основой нашей жизни. И даже если смелости недостает, необходимо все равно на это решиться, потому что, как сказала Ханна Арендт, отсутствие размышления еще опаснее {132}.
От культуры-наследия к культуре-гуманизму: филология и очарование
Сторонний наблюдатель – вот ответ, который предлагает студенткам Беньямин. Это отношение филолога. Филолог – это тот, кто при виде любого творения человеческого разума спрашивает себя, как оно создано. Для Вико это единственное знание, которое доступно человеку, поскольку человек может знать только то, что произвел сам: истинно лишь то, что сделано (verum esse ipsum factum), истинное и сделанное эквивалентны (verum et factum convertuntur) {133}.
С этой точки зрения Овидий или Шенье уже не гипсовые бюсты, а живые создания своего времени, наши собратья по человеческой расе, которых лишь нужно оживить, поместив в их время и в их мир.
В ходе этой филологической операции авторы и их произведения изымаются из культуры-наследия, чтобы занять свое место в другой форме культуры – культуре-гуманизме. Гуманистом я называю любого, кто интересуется прошлым ради самого прошлого, не стремясь использовать его для господства и порабощения. Своими исследованиями он не только возвращает к жизни культуру-наследие, очищая памятники от патины и глянца, но и выискивает в прошлом то, что не было нам передано. Он бродит по руинам, ныряет в безмолвные глубины архивов, ведет раскопки. В рамках этой великодушной концепции, охватывающей все прошлое, историю как победителей, так и побежденных, он реконструирует и реставрирует жизнь людей, что в итоге способствует размышлениям о человеческой жизни нашего времени.
Однако позиция филолога – стороннего наблюдателя не единственная альтернатива жреческому отношению. Порой чарующая встреча души с произведением искусства случается вне всякого социально-исторического сознания. Давайте послушаем, что сказала Пеги муза истории Клио – кому, как не ей, под силу наилучшим образом описать эту возможность:
«Чтобы читать Гомера. Чтобы лучше знать Гомера. Делайте как я, говорит она. Возьмите Гомера. Сделайте это так, как это следует делать всегда. С самыми великими. Возможно, прежде всего с великими. Не говорите себе: “Он великий”. Нет, не говорите себе этого. Не говорите себе ничего. Возьмите текст. Не говорите себе: “Это Гомер. Он самый великий. Он самый древний. Он – господин. Он – отец. Он – хозяин всего. В том числе хозяин всего, что когда-либо было величайшего в мире, то есть того, что ему знакомо”. Возьмите текст. Пусть между вами и текстом не будет ничего постороннего. Особенно памяти. Позвольте мне сказать вам это – ведь, быть может, только я и вправе вам это сказать: пусть между вами и текстом не будет никакой истории. И позвольте сказать еще кое-что: пусть между вами и текстом не будет ни восхищения, ни уважения. Возьмите текст. Читайте так, как если бы это была книга, вышедшая на прошлой неделе» {134}.
Говоря словами Китса, с которым случались такие встречи (а из них вырастали прекраснейшие английские стихотворения), «в прекрасном – радость без конца». Прекрасное действует. Необходимо лишь позволить ему свободу действия. Возьмем, к примеру, Пьеро делла Франческа. Его фрески из цикла «История Животворящего Креста» можно рассматривать глазами стороннего наблюдателя, который, восхищаясь «усилиями великого гения, создавшего их», не забывает об их происхождении. Тогда это свидетельство культуры становится также свидетельством варварства, поскольку его создание было профинансировано богатейшей семьей в Ареццо, оно прославляет завоевателей – Константина, Ираклия – и к тому же изображает пытки еврея, что в этой францисканской церкви выглядит весьма органично, если вспомнить, какое место занимал антисемитизм в проповедях тосканских нищенствующих братьев XV века. А можно, как большинство туристов, ничего не знать обо всем этом и «сделать, как следует делать с самыми великими»: просто увидеть – и «после этих трех стен ваша жизнь не будет прежней» {135}. Именно так и происходит в большинстве случаев. Мы часто встречаемся с произведением искусства, ничего не зная о его генезисе. И прекрасное поражает нас независимо от несправедливости, имевшей место при его создании. То, что можно сказать о фресках Пьеро делла Франческа, применимо и к кантатам Баха, фигуре Жанны д’Арк, цистерцианской архитектуре, стихах Мари Ноэль и т. д.
Дистанцированность филолога и почти любовное чувство при встрече – эти два способа смотреть на прошлое взаимно противоположны, но не исключают друг друга. Зато оба они исключают жреческий подход.
Культура отмены как европейское наследие
Культура отмены может казаться следствием завоевания мира европейцами, однако было бы неверно видеть в ней исключительно противостояние мира и Европы. На мой взгляд, это движение укоренено непосредственно в самой европейской цивилизации. К церковному и капиталистическому пластам следует добавить еще один, возникший примерно в XVII–XVIII веках. Его можно определить одним словом – эмансипация, то есть освобождение от богословско-политических авторитетов, несправедливого общественного порядка и условностей.
То было время, когда начала рушиться вера в загробную жизнь, в том числе страх перед адом. А этот страх, как мы уже говорили, играл ключевую роль в управлении подчиненным населением. Профессор философии, который в 1626 году признавался избранным друзьям, что стал атеистом, одновременно ревностно следил за тем, чтобы его камердинер оставался добрым католиком, «опасаясь, что если тот, как и я, не будет ни во что верить, то однажды утром он зарежет меня в постели» {136}.
«Так, после 1650 года, когда ‹…› существование ада и реальность вечных мучений для проклятых душ стали все чаще подвергаться сомнению, рассматривалась возможность уберечь большинство населения от неверия. Но такой масштабный обман потребовал бы перестроить всю систему культурных взаимоотношений между элитами и народом посредством сознательной, систематической и всеобщей лжи и надувательства, что вряд ли было осуществимо» {137}.